Судьба музыканта в эпоху перемен:
История Н.Я. Выгодского
Гуров Олег Николаевич
«История страны в судьбах узников соловецких лагерей». Выпуск №8, 2024 г.
«История страны в судьбах узников соловецких лагерей». Выпуск №8, 2024 г.
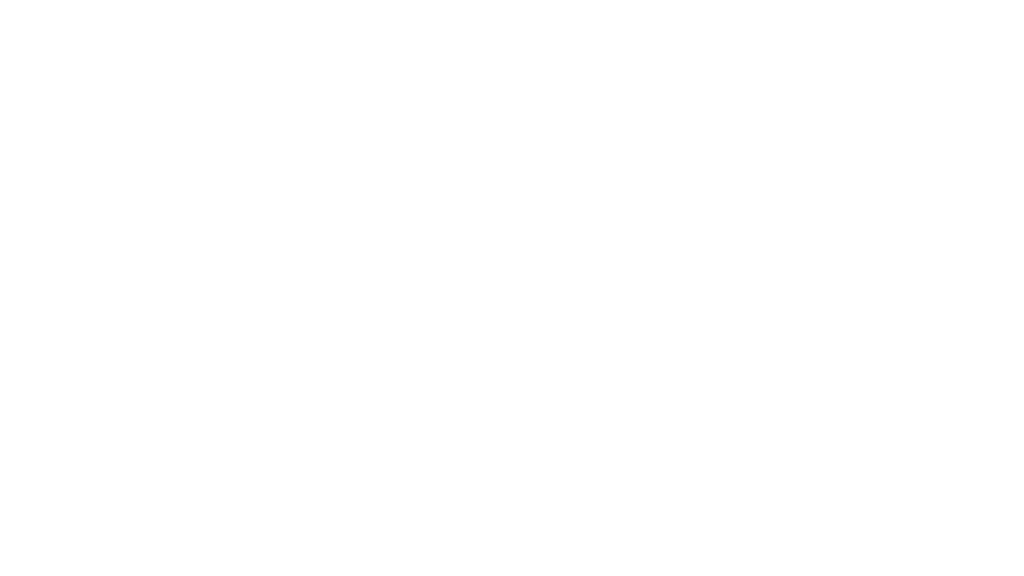
При цитировании просьба использовать ссылку:
Гуров О.Н. Судьба музыканта в эпоху перемен: история Н. Я. Выгодского // История страны в судьбах узников соловецких лагерей: сборник статей и докладов научно-практической конференции / Федер. гос. бюджет. учреждение культуры «Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник»; отв. ред. Е. Е. Шурупова, А. П. Яковлева. — Вып. 8. — Соловки: Соловецкий музей-заповедник, 2024. — С. 114-130
Гуров О.Н. Судьба музыканта в эпоху перемен: история Н. Я. Выгодского // История страны в судьбах узников соловецких лагерей: сборник статей и докладов научно-практической конференции / Федер. гос. бюджет. учреждение культуры «Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник»; отв. ред. Е. Е. Шурупова, А. П. Яковлева. — Вып. 8. — Соловки: Соловецкий музей-заповедник, 2024. — С. 114-130
Аннотация.
Данное исследование посвящено жизни и творчеству Николая Яковлевича Выгодского (1900–1939) – органиста, пианиста, композитора, преподавателя и музыкального критика, чей образ и наследие недостаточно исследовано. Автор – двоюродный правнук Н. Я. Выгодского обратился к различным архивам и открытым источникам, а также зафиксировал воспоминания родственников, чтобы нарисовать хотя бы самые общие контуры биографии талантливого человека и гражданина, судьбу и жизнь которого разрушили трагические политические и общественные события 30-х годов XX века. В статье автор приводит методологические основания в рамках концепта культурологической эго истории, чтобы с его помощью наметить ориентиры исследования и провести рефлексию и осмысление судьбы неординарного музыкального деятеля в контексте времени его жизни и творчества.
Ключевые слова: Николай Выгодский, Марк Выгодский, Давид Мейчик, Дмитрий Шостакович, Сергей Рахманинов, Дмитрий Гачев, Павел Флоренский, Большой террор.
Данное исследование посвящено жизни и творчеству Николая Яковлевича Выгодского (1900–1939) – органиста, пианиста, композитора, преподавателя и музыкального критика, чей образ и наследие недостаточно исследовано. Автор – двоюродный правнук Н. Я. Выгодского обратился к различным архивам и открытым источникам, а также зафиксировал воспоминания родственников, чтобы нарисовать хотя бы самые общие контуры биографии талантливого человека и гражданина, судьбу и жизнь которого разрушили трагические политические и общественные события 30-х годов XX века. В статье автор приводит методологические основания в рамках концепта культурологической эго истории, чтобы с его помощью наметить ориентиры исследования и провести рефлексию и осмысление судьбы неординарного музыкального деятеля в контексте времени его жизни и творчества.
Ключевые слова: Николай Выгодский, Марк Выгодский, Давид Мейчик, Дмитрий Шостакович, Сергей Рахманинов, Дмитрий Гачев, Павел Флоренский, Большой террор.
Строго говоря, определенная память о Николае Яковлевиче Выгодском как о музыкальном деятеле и педагоге в том или ином виде дошла до наших дней – нельзя утверждать, что его фигура канула в небытие. В «Большой биографической энциклопедии» и «Музыкальной энциклопедии» представлены информация о годах его жизни и отдельные факты, относящиеся к профессиональной деятельности1. У букинистов можно приобрести «Методическую хрестоматию по курсу общего фортепиано», изданную в роковом для Н. Я. Выгодского 1935 году, а в интернете доступны для скачивания ноты «Н. Паганини. Вариации (обработка Н. Выгодского)»2. Кроме этого, его имя мельком упоминается в воспоминаниях Д. Д. Шостаковича и соловецких узников Ю. И. Чиркова и Л. С. Танюка3. Имя Н. Я. Выгодского можно встретить и в воспоминаниях его товарища и коллеги, музыковеда и историка культуры Д. И. Гачева, который и сам был репрессирован в 1938 году и впоследствии умер на Колыме4.
При этом наблюдается некоторый парадокс, потому что имя Н. Я. Выгодского наиболее часто упоминается в сетевой публицистике последних лет лишь в определенной ипостаси – как об одном из активистов Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ). Современные блогеры и эссеисты, критикуя эту организацию, перепечатывают из публикации в публикацию ссылку на одну из статей Н. Я. Выгодского. Активисты РАПМ действительно вели себя достаточно агрессивно, реформируя музыкальную культуру в 20-х годах прошлого века, и Н. Я. Выгодский состоял в этой организации и опубликовал в разные годы несколько работ в ряде журналов, посвященных музыке. В частности, в 1931 году он издал статью в журнале «Пролетарский музыкант», в которой жестко раскритиковал концерт, в программе которого звучала музыкальная композиция Рахманинова, находившегося в то время уже в жесткой оппозиции к советской идеологии.
Однако, только такая память и только такое представление о Н. Я. Выгодском явно не полны и недостаточны, чтобы составить объемный образ такого разносторонне одаренного и активного, поистине Универсального человека, подобного героям эпохи Возрождения, которые развивали в себе многочисленные и разносторонние таланты и направляли их на прогресс и развитие. Несправедливо то, что фигура такого яркого и талантливого человека практически не изучена, и вследствие этого искаженно, односторонне и скудно представлена в информационном и научном поле.
Создаётся впечатление, что мы говорим о каком-то призраке или фантоме, и это вдвойне несправедливо, потому что, на самом деле, речь идёт о реальном человеке, музыканте-виртуозе, учёном и деятеле культуры и искусства, который внёс вклад в отечественную музыкальную культуру и науку, и фактически отдал жизнь за идеалы и ценности, которые исповедовал.
Автор данной статьи, двоюродный правнук Н. Я. Выгодского, обращался за информацией к нескольких ученым, в том числе, специалистам по истории музыкальной культуры первой половины XX века, в частности, к специалистам Государственного института искусствознания и Московской Консерватории, и везде получил ответ, что об этом деятеле культуры они что-то слышали, но затруднились предоставить какие-либо детали.
Поэтому целью настоящего исследования является первая попытка собрать воедино те немногие факты, которые автор нашел в различных архивах и открытых источниках, а также представить точечные семейные воспоминания о Н. Я. Выгодском, переданные через вторые руки, чтобы зафиксировать факты и предания, и наметить хотя бы смутные контуры биографии талантливого и яркого человека, безвременного сметенного с профессионального и жизненного пути яростными потоками советской политической и общественной жизни 1930-х годов. Кроме личного, автор руководствуется и научным интересом, стремясь исследовать, как выстраиваются взаимосвязи между индивидуальной судьбой неординарного и талантливого человека ХХ столетия с историческим и культурным контекстом.
Этот интерес обусловлен развитием нового концепта, который автор данной работы в настоящее время разрабатывает с коллегой, доктором культурологии, руководителем сектора проблем массмедиа ГИИ Е. В. Сальниковой.
Этот концепт – культурологическая эго-история, тип истории, которая фокусируется на личном опыте и воспоминаниях индивида в контексте культуры. Она может включать «культурологические» воспоминания о детстве и/или артефактах повседневности, воспоминания о близких или дальних родственниках. В центре культурологической эго-истории может быть осмысление собственной личности и реконструкция биографии предков через призму культурной истории страны. Такой подход может обеспечить новую степень погружения в историю культуры и преодолеть сложности и ограничения, и даже заставить трезво взглянуть на сознательные или бессознательные искажения или предвзятости.
Культурологическая эго-история способна помочь индивиду понять свою культуру и собственное место в ней. Это также может быть продуктивным для рассмотрения существующих, но не всегда очевидных связей между собственным персональным опытом и культурными (в широком масштабе) тенденциями/событиями.
Как отметила Е. В. Сальникова, помимо всего прочего, культурологическая эго-история делает более очевидным тот факт, что объективная реальность культуры далеко не тождественна типическому и общераспространенному. Объективность в известной мере всегда иллюзорна, это конфигурация множества субъективных нюансов, в том числе тех, которые производят впечатление весьма характерных, убедительно «всеобщих» и универсальных. Но в действительности культурный процесс включает в себя множество субъективного, достоверность которого далеко не всегда можно проверить и доказать – тем не менее, ее следует принимать в расчет, поскольку наша память является наиболее древним, «дотехническим» хранилищем информации.
Именно в рамках данного, еще формирующегося подхода, автор и подготовил настоящее исследование. Итак, Николай Яковлевич Выгодский родился 2I марта (3 апреля по новому стилю) 1900 года в Петербурге. Его родители происходили из Беларуси и поначалу жили в Минске. По работе отец много путешествовал, и в детские годы Николай успел пожить в разных городах Российской империи.
Его отец, Яков Ефимович Выгодский, был инженером-химиком и предпринимателем. До революции он принадлежал к сословной группе почетных граждан. Вскоре после рождения Николая Выгодские переехали в Пятигорск, где отец открыл книжную лавку, а позднее – в Баку, где у семьи был свой кинематограф, один из первых в городе.
Музыкальные способности, в частности, абсолютный слух обнаружились у Н. Я. Выгодского в самом раннем детстве. Среди родных по материнской линии эти способности встречались нередко. Сама мать, Любовь Давыдовна Выгодская (урожденная Мейчик), была учительницей музыки, ее сестра Анна Давыдовна стала оперной певицей, известной во всем мире. Еще до революции она давала концерты в знаменитых «Ла Скала», «Метрополитен-опера», Мариинском театре и Карнеги-холле, а с 1922 года певица осталась в Нью-Йорке. Троюродный брат Николая Выгодского Марк Наумович Мейчик, ученик А. Н. Скрябина, был известным пианистом, педагогом и музыковедом.
Дедушка Н. Я. Выгодского по материнской линии Давид Маркович Мейчик, выпускник Московского университета, был юристом, присяжным поверенным в Москве и Минске, и одним из основателей белорусской высшей школы5.
Старший брат Марк Яковлевич Выгодский впоследствии стал известным математиком и педагогом, одним из основателей советской историко-математической школы.
Первые уроки фортепианной игры Н. Я. Выгодскому давала мать. Позднее, в I909 году, уже учась в Бакинской 2-ой гимназии, он начал посещать музыкальные классы при Бакинском отделении Императорского русского музыкального общества по классу фортепиано.
По окончании гимназии он получил образование в Тифлисской консерватории по классу фортепиано И. Айсберга, а после установления советской власти в Грузии переехал в Москву и продолжил обучение в Московской консерватории, где окончил исполнительский факультет по классу органа и научно-музыкальный факультет по истории музыки (1926–1928). В те же годы на протяжении двух лет он изучал и композицию на композиторском факультете6.
В те годы культура и, в частности, музыкальная жизнь в Москве буквально кипела, молодые и талантливые люди плодотворно учились, работали и вели активную социальную жизнь, занимались творчеством. Д. И. Гачев вспоминает в одном из писем: «Секретарь нашего факультета, тоже студент и первый органист в консерватории, одновременно и очень хороший пианист (Н. Я. Выгодский – О. Г.), еще в первый месяц пригласил меня к себе, мы уже добрые приятели; часто собираемся, несколько студентов, у него и разбираем Баха, Бетховена и Вагнера. Часто после какого-нибудь концерта он приглашает нас к себе на чай, яблоки и медовые пряники и музыку. И так – до 3–4 часов утра»7.
С I922 года Н. Я. Выгодский работал преподавателем, а с 1932 года –доцентом Московской консерватории, его специализацией была история музыки. Также в течение всех последующих лет он преподавал фортепиано студентам нефортепианных факультетов Московской консерватории.
Н. Я. Выгодский – один из первых органистов, учившихся в послереволюционные годы. В то время орган считался громоздким и скучным инструментом и ассоциировался с чем-то устаревшим и неактуальным. Органная музыка исполнялась чаще всего в костелах и кирхах, и Н. Я. Выгодский со своим творческим подходом стремился изменить это представление. Однако он был не только талантливым органистом, но и автором фортепианных и органных транскрипций. В своем творчестве он нередко удивлял слушателей необычной интерпретацией произведений и авторской регистровкой. Н. Я. Выгодский был широко образованным музыкантом, обладавшим уникальными навыками игры на органе и фортепиано. Его транскрипции для данных инструментов отмечены большим мастерством, однако, к сожалению, большинство из них было утеряно, и сейчас доступны только отдельные произведения8.
С 1931 года он работал и редактором в Музгизе. Кроме этого активно занимался общественной деятельностью, был организатором и руководителем ряда кружков музыкальной самодеятельности, в том числе в Коммунистическом университете им. Свердлова (1921–1925) и на заводе «Каучук» (1933–1935).
Стремление нести музыку в массы всегда было целью жизни Н. Я. Выгодского. Именно поэтому он был активным участником «Российской ассоциации пролетарских музыкантов» и других общественных организаций. Думается, что именно в рамках этого искреннего просветительского стремления, направленного на демократизацию культуры и искусства, он и написал ряд музыкальных критических статей в таких журналах как «Пролетарский музыкант», «Советская музыка» и др., которые не в полной мере выдержали проверку временем.
Талант и человеческие качества Н. Я. Выгодского подтверждаются тем, что он находился в многолетнем тесном творческом и дружеском контакте с такими новаторами в области музыки и музыкальной критики, как А. А. Давиденко, М. В. Коваль, Б. С. Шехтер и другими. Кстати, многие из этих авторитетных деятелей впоследствии будут апеллировать к советскому руководству с просьбой пересмотреть обвинительный приговор Н. Я. Выгодскому, а также требовать его посмертной реабилитации уже после смерти Сталина. В те годы Николай Яковлевич близко общался и с А. В. Луначарским, который любил игру музыканта. Также Н. Я. Выгодский много лет переписывался со всемирно известным писателем, лауреатом Нобелевской премии Р. Ролланом, который был и ученым-музыковедом.
Активная работа продолжалась до начала 1935 года, когда 26 января Н. Я. Выгодский был арестован по ложному обвинению. Вспомним, что после убийства в декабре 1934 года С. М. Кирова, одного из руководителей ленинградской партийной организации и члена Политбюро ЦК ВКП(б) и Президиума ВЦИК СССР, законодательство ужесточилось, а процесс рассмотрения дел о террористических организациях и актах упростился. Еще ранее, в ноябре 1934 года , было создано Особое совещание при НКВД СССР, которому давалось право применять заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до пяти лет и другие виды наказаний. Законодательство было пересмотрено в связи со смертью Кирова, и результатом этих мер стало более жесткое рассмотрение дел и более серьезные наказания для тех, кто совершал террористические акты.
По Постановлению ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года дела обвиняемых по этим преступлениям надлежало рассматривать в ускоренном порядке без участия сторон, исполнение приговоров к высшей мере наказания приводить незамедлительно, не допускалось обжалование приговора. Это постановление ознаменовало новый этап в политике репрессий, которые, как правило, начинались с «верхушки». Но репрессии против партийной номенклатуры, к которой применялось это постановление, были лишь вершиной айсберга.
За что действительно был арестован Н. Я. Выгодский, можно только догадываться. Его карьера следовала по восходящей траектории, он был активным членом РАМП, которая жестко «реформировала» Московскую консерваторию в соответствии с новыми требованиями к культуре9. Многие коллеги Н. Я. Выгодского по Ассоциации впоследствии заняли руководящие посты в советской культуре. По предположению видного специалиста по советской эпохе 1920–1930-х годов Е. С. Власовой, он мог быть арестован и осужден за дружеские и близкие деловые отношения с бывшим директором Московской консерватории Б. С. Пшебышевским, которого осудили в 1933 году и расстреляли спустя несколько лет. Вполне вероятно, что поводом для ареста Н. Я. Выгодского послужил донос, поскольку это было привычной практикой.
Дальнейшие события реконструированы по материалам «Архивного следственного дела № Р-16109 в отношении Выгодского Николая Яковлевича», находящегося в Центральном архиве ФСБ10. Формально арест произошел при следующих обстоятельствах. Ожидая в течение некоторого времени встречи с коллегой у Дорогомиловского моста, Н. Я. Выгодский привлек внимание милиционера, который задержал его и передал в органы госбезопасности. Записка с назначением встречи по стечению обстоятельств не дошла до адресата, и он не смог подтвердить договоренность. За этим последовал арест. Предположительно эти события стали для Н. Я. Выгодского неожиданностью, поскольку, как он указал на допросе, в его планах было поехать 2–3 февраля в Ленинград, чтобы выступить на конкурсе и концерте, к которым он серьезно готовился. Действительно в феврале-марте 1935 года там проводился второй Всесоюзный Конкурс музыкантов-исполнителей по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, пение и др. В его квартире был проведен обыск, при котором были найдена личная переписка, записки, фотографии, книги Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева (арестованного в декабре 1934 года). Эти находки определили его дальнейшую судьбу.
По поводу одной из записок и фотографии Л. Д. Троцкого Н. Я. Выгодский указал: «… предъявленный мне документ контрреволюционного содержания, написанный моей рукой на листе нотной бумаги, принадлежит мне. Этот документ является записью контрреволюционных высказываний, по моему мнению, полусумасшедшей старухи, примерно 60-70 лет, навещавшей моих соседей по квартире, фамилии которых я не помню… фотокарточка Троцкого принадлежит мне, она мною получена в подарок 10-11 лет назад от одного из студентов Свердловского Университета. Фамилии лица подарившего мне фотокарточку, я не помню…»11. Стоит обратить внимание на то, что Н. Я. Выгодский нашел в себе смелость скрыть имена знакомых и друзей, чтобы не навлечь на них возможные репрессии, а также твердо отказался оговорить себя, признав контрреволюционером, занимавшемся вражеской деятельностью. Наличие фотокарточки Л. Д. Троцкого он объяснил тем, что занимался изучением истории ВКП(б).
Аргументам обвинения способствовала и обнаруженная переписка с братом отца Юделем Ефимовичем Выгодским, который в письмах, по словам следователя, позиционировал себя как сионист, и с сыном директора Тифлисской Консерватории музыкантом и «белоэмигрантом» А. Н. Черепниным. То, что переписка с последним велась до 1925 года и касалась исключительно музыкальной деятельности, очевидно, значения не имело12.
По окончании следствия 10 апреля 1935 года Особое Совещание при Народном Комиссариате Внутренних Дел СССР постановило заключить Н. Я. Выгодского за контрреволюционную деятельность в исправтрудлагерь сроком на 5 лет. Вскоре он был отправлен в Белбалтлаг, где отбывал срок до 1939 года13.
О его жизни в заключении известно достаточно мало. Автор данной статьи обращался в ГИАЦ МВД, архивные подразделения МВД, ФСБ, ФСИН Архангельской области, Республики Карелия, ряда других регионов, куда могли были быть направлены архивные документы о заключении Н. Я. Выгодского, однако отовсюду пришли отрицательные ответы.
При этом память о последнем периоде жизни Н. Я. Выгодского не стерлась полностью. Д. Д. Шостакович, отдавая дань памяти талантливым людям, погибших в результате репрессий, пишет и о нем: «… Мы слишком быстро забыли о Жиляеве и других. Погиб Сергей Попов, очень талантливый человек… Или Николай Выгодский, талантливый органист. Та же самая история. Забыт Болеслав Пшибышевский, ректор Московской консерватории, сын известного писателя. Забыт и Дима Гачев. Он был хорошим музыковедом»14.
Ю. И. Чирков в своих лагерных воспоминаниях называет Н. Я. Выгодского пианистом-виртуозом, ярким участником лагерной концертной бригады. Также он пишет о наступлении 1937 года, перед которым «… состоялся прекрасный новогодний концерт – последний в истории соловецкого театра. Все исполнители, предугадывая это, играли так, как перед смертью, отдавая все свои силы и вдохновение залу. Как пел Привалов, как исполнил Брамса и Рахманинова (2-ой концерт) Выгодский!»15 Есть некая ирония в том, что Н. Я. Выгодский запомнился Ю. И. Чиркову именно как талантливый исполнитель Рахманинова, о творчестве которого он так критично отзывался за несколько лет до этого.
Л. С. Танюк свидетельствует о мифологизации образа Н. Я. Выгодского, «… который будучи посажен в одиночку, якобы оторвал от нар доску, нарисовал на ней клавиатуру и часами играл на этом беззвучном инструменте. Прибежавший комендант, решив, что заключенный сошел с ума, отобрал у музыканта доску и перевел пианиста в Головленковскую крепость»16. Головленковская крепость и еще целых ряд подобных камер на Соловках – это место, где заключенные подвергались жестокому дополнительному наказанию. Тесные и низкие камеры были расположены внутри стен и башен монастыря. В частности, в Головленковской башне камеры имеют размер примерно 1,5 метра в длину и 1 метр в высоту и ширину. В таких камерах нет окон, поэтому внутри всегда было темно. Кроме того, в помещении всегда царит холод и высокая влажность. По сути размещение с такую камеру может означать смертный приговор. Отметим, что Л. С. Танюк обращает внимание, что, скорее всего, вся эта история может быть мифом.
Существует и семейная легенда, которая может иметь основание, но в любом случае не имеет документального подтверждения. Родители рассказывали автору данной статьи о конфликте Н. Я. Выгодского с охранниками на Соловках. Невзирая на запреты и наказания, он продолжал играть на пианино, находившемся в лагере. По словам родственников, однажды за такое поведение Н. Я. Выгодского жестоко избили, и даже сломали или отрубили пальцы, чтобы он больше не смог музицировать. Это стало главной причиной его потери воли к жизни, и вскоре он ушел из жизни.
Интересно, что эта история сама по себе имеет некую мифологическую составляющую, а мифология часто находит отражение в реальных событиях. Широко известна история чилийского певца и гитариста Виктора Хары, который был арестован после переворота Пиночета в 1973 году и отправлен в импровизированный концлагерь, где перед расстрелом подвергался пыткам и избиениям, и в частности, ему при жизни изуродовали руки, чтобы лишить последней надежды и сломить дух.
Скорее всего, на Соловках Н. Я. Выгодский общался с П. А. Флоренским, вероятно, они оба, как ученые, были частыми посетителями библиотеки. В одном из писем П. А. Флоренский пишет о книге М. Я. Выгодского «Галилей и инквизиция»: «Был доволен, что наконец-то в нашей литературе перестали болтать о Галилее глупости, которыми была наводнена она раньше, и твердо отвергаются выдумки. Это тем более приятно, что книга написана именно Выгодским, а не кем-либо другим»17. Можно предположить, что П. А. Флоренский не только высоко оценивает исследование математика, но и делает акцент на знакомстве с его братом.
Последние месяцы жизни Н. Я. Выгодского, как можно догадываться, были трагичными. В заявлении с просьбой посмертно реабилитировать брата, направленном в военную прокуратуру в январе 1955 года, М. Я. Выгодский пишет, что «… весной 1939 года обострившийся костный туберкулез стал угрожать жизни брата…». Узнав об этом, М. Я. Выгодский и заслуженный деятель искусств Г. Г. Нейгауз обратились в НКВД с ходатайством о досрочном освобождении заключенного. Было принято решение о переводе Н. Я. Выгодского в больницу. Однако к этому моменту его уже не было в живых, «… во Владимирской тюрьме, не выдержав длительного пути из Соловецкой тюрьмы, откуда заключенные эвакуировались в другие места заключения»18, Н. Я. Выгодский умер 26 ноября 1939 года, не дожив почти полгода до сорокалетия.
Отдельно необходимо упомянуть о судьбе близких Н. Я. Выгодского. Его жена М. В. Уманская после осуждения мужа была исключена из ВКП(б) и вскоре отправлена в ссылку, где провела почти 20 лет: с 1937 по 1948 год – в Киргизской республике, а позднее вплоть до 1955 года – в Казахстане. В заявлении в прокуратуру, датированным 23 мая 1956 года (вскоре после ХХ съезда КПСС) с требованием ее официально реабилитировать, она не может скрыть эмоций: «… 20 лет ссылки – это очень тяжелое наказание. Это целая жизнь»19. Нужно отметить, что после смерти в 1984 году М. В. Уманская, согласно своему завещанию, была похоронена на Востряковском кладбище в Москве вместе с прахом Н. Я. Выгодского.
Брат Николая Яковлевича Марк Яковлевич Выгодский в 1935 году был также исключен из партии, формально во время партпроверки за пассивность как случайно пробравшийся в партию и не проявивший себя коммунистом, и за протаскивание чуждых марксизму взглядов в упомянутой ранее книге «Галилей и инквизиция», опубликованной годом ранее. Однако мы склонны полагать, что обстоятельством, которое могло послужить толчком для исключения М. Я. Выгодского из партии и застопорить развитие его карьеры, был как раз арест и осуждение брата. В связи с этим представляется правдоподобным, что токсичный шлейф потянулся и к фигуре М. Я. Выгодского, в тот момент активно занимавшегося развитием общественной и научно-педагогической карьеры и чья деятельность находилась под пристальным вниманием коллег по идеологической и научной работе.
Несмотря на то, что исключение М. Я. Выгодского из партии не привело к фатальным последствиям, этот факт оказался серьезным препятствием для дальнейшего развития его научной и общественной карьеры. Парадоксально, но, вероятно, что эти события, тем не менее, оказались спасительными, по крайней мере, для физического выживания его самого и его семьи. С учетом еврейской национальности, непролетарского происхождения, «сомнительных» деталей биографии и «опасных» знакомств, шансы М. Я. Выгодского при последовательном карьерном развитии пасть жертвой «Большого террора» вслед за своим братом Н. Я. Выгодским были велики.
В заключение автор хотел бы кратко рассмотреть образ Н. Я. Выгодского в культурно-историческом контексте. Как мы писали, он был активным участником оставившей недобрую славу РАПМ, однако мы полагаем, что при всей агрессивности в историческом плане ее деятельность сыграла не только негативную и разрушительную для культуры роль. Само по себе стремление к демократизации искусства было позитивным и благородным. Массовость музыкального образования, чьей целью было «подтянуть» уровень слушателей до достойного культурного уровня, оказалась вполне успешной. Поэтому несмотря на радикальную нетерпимость ко всему чуждому пролетариату, и то, что «суждения теоретиков РАПМ страдали вульгарным социологизмом и часто бывали несправедливы по отношению к виднейшим представителям советской музыки и передовым художникам зарубежных стран…», деятельность этой организации принесла и позитивные плоды. Поэтому мы склонны рассматривать фигуру Н. Я. Выгодского как одного из энтузиастов и робеспьеров в сфере искусства и культуры, которые в буквальном смысле пожертвовали жизнью за свои идеалы м убеждения.
Благодарность: автор выражает искреннюю благодарность А. Винтеру, Е. Власовой, Е. Зелинской, Т. Полянской, А. Яковлевой за неоценимую помощь в подготовке настоящей статьи.
При этом наблюдается некоторый парадокс, потому что имя Н. Я. Выгодского наиболее часто упоминается в сетевой публицистике последних лет лишь в определенной ипостаси – как об одном из активистов Российской ассоциации пролетарских музыкантов (РАПМ). Современные блогеры и эссеисты, критикуя эту организацию, перепечатывают из публикации в публикацию ссылку на одну из статей Н. Я. Выгодского. Активисты РАПМ действительно вели себя достаточно агрессивно, реформируя музыкальную культуру в 20-х годах прошлого века, и Н. Я. Выгодский состоял в этой организации и опубликовал в разные годы несколько работ в ряде журналов, посвященных музыке. В частности, в 1931 году он издал статью в журнале «Пролетарский музыкант», в которой жестко раскритиковал концерт, в программе которого звучала музыкальная композиция Рахманинова, находившегося в то время уже в жесткой оппозиции к советской идеологии.
Однако, только такая память и только такое представление о Н. Я. Выгодском явно не полны и недостаточны, чтобы составить объемный образ такого разносторонне одаренного и активного, поистине Универсального человека, подобного героям эпохи Возрождения, которые развивали в себе многочисленные и разносторонние таланты и направляли их на прогресс и развитие. Несправедливо то, что фигура такого яркого и талантливого человека практически не изучена, и вследствие этого искаженно, односторонне и скудно представлена в информационном и научном поле.
Создаётся впечатление, что мы говорим о каком-то призраке или фантоме, и это вдвойне несправедливо, потому что, на самом деле, речь идёт о реальном человеке, музыканте-виртуозе, учёном и деятеле культуры и искусства, который внёс вклад в отечественную музыкальную культуру и науку, и фактически отдал жизнь за идеалы и ценности, которые исповедовал.
Автор данной статьи, двоюродный правнук Н. Я. Выгодского, обращался за информацией к нескольких ученым, в том числе, специалистам по истории музыкальной культуры первой половины XX века, в частности, к специалистам Государственного института искусствознания и Московской Консерватории, и везде получил ответ, что об этом деятеле культуры они что-то слышали, но затруднились предоставить какие-либо детали.
Поэтому целью настоящего исследования является первая попытка собрать воедино те немногие факты, которые автор нашел в различных архивах и открытых источниках, а также представить точечные семейные воспоминания о Н. Я. Выгодском, переданные через вторые руки, чтобы зафиксировать факты и предания, и наметить хотя бы смутные контуры биографии талантливого и яркого человека, безвременного сметенного с профессионального и жизненного пути яростными потоками советской политической и общественной жизни 1930-х годов. Кроме личного, автор руководствуется и научным интересом, стремясь исследовать, как выстраиваются взаимосвязи между индивидуальной судьбой неординарного и талантливого человека ХХ столетия с историческим и культурным контекстом.
Этот интерес обусловлен развитием нового концепта, который автор данной работы в настоящее время разрабатывает с коллегой, доктором культурологии, руководителем сектора проблем массмедиа ГИИ Е. В. Сальниковой.
Этот концепт – культурологическая эго-история, тип истории, которая фокусируется на личном опыте и воспоминаниях индивида в контексте культуры. Она может включать «культурологические» воспоминания о детстве и/или артефактах повседневности, воспоминания о близких или дальних родственниках. В центре культурологической эго-истории может быть осмысление собственной личности и реконструкция биографии предков через призму культурной истории страны. Такой подход может обеспечить новую степень погружения в историю культуры и преодолеть сложности и ограничения, и даже заставить трезво взглянуть на сознательные или бессознательные искажения или предвзятости.
Культурологическая эго-история способна помочь индивиду понять свою культуру и собственное место в ней. Это также может быть продуктивным для рассмотрения существующих, но не всегда очевидных связей между собственным персональным опытом и культурными (в широком масштабе) тенденциями/событиями.
Как отметила Е. В. Сальникова, помимо всего прочего, культурологическая эго-история делает более очевидным тот факт, что объективная реальность культуры далеко не тождественна типическому и общераспространенному. Объективность в известной мере всегда иллюзорна, это конфигурация множества субъективных нюансов, в том числе тех, которые производят впечатление весьма характерных, убедительно «всеобщих» и универсальных. Но в действительности культурный процесс включает в себя множество субъективного, достоверность которого далеко не всегда можно проверить и доказать – тем не менее, ее следует принимать в расчет, поскольку наша память является наиболее древним, «дотехническим» хранилищем информации.
Именно в рамках данного, еще формирующегося подхода, автор и подготовил настоящее исследование. Итак, Николай Яковлевич Выгодский родился 2I марта (3 апреля по новому стилю) 1900 года в Петербурге. Его родители происходили из Беларуси и поначалу жили в Минске. По работе отец много путешествовал, и в детские годы Николай успел пожить в разных городах Российской империи.
Его отец, Яков Ефимович Выгодский, был инженером-химиком и предпринимателем. До революции он принадлежал к сословной группе почетных граждан. Вскоре после рождения Николая Выгодские переехали в Пятигорск, где отец открыл книжную лавку, а позднее – в Баку, где у семьи был свой кинематограф, один из первых в городе.
Музыкальные способности, в частности, абсолютный слух обнаружились у Н. Я. Выгодского в самом раннем детстве. Среди родных по материнской линии эти способности встречались нередко. Сама мать, Любовь Давыдовна Выгодская (урожденная Мейчик), была учительницей музыки, ее сестра Анна Давыдовна стала оперной певицей, известной во всем мире. Еще до революции она давала концерты в знаменитых «Ла Скала», «Метрополитен-опера», Мариинском театре и Карнеги-холле, а с 1922 года певица осталась в Нью-Йорке. Троюродный брат Николая Выгодского Марк Наумович Мейчик, ученик А. Н. Скрябина, был известным пианистом, педагогом и музыковедом.
Дедушка Н. Я. Выгодского по материнской линии Давид Маркович Мейчик, выпускник Московского университета, был юристом, присяжным поверенным в Москве и Минске, и одним из основателей белорусской высшей школы5.
Старший брат Марк Яковлевич Выгодский впоследствии стал известным математиком и педагогом, одним из основателей советской историко-математической школы.
Первые уроки фортепианной игры Н. Я. Выгодскому давала мать. Позднее, в I909 году, уже учась в Бакинской 2-ой гимназии, он начал посещать музыкальные классы при Бакинском отделении Императорского русского музыкального общества по классу фортепиано.
По окончании гимназии он получил образование в Тифлисской консерватории по классу фортепиано И. Айсберга, а после установления советской власти в Грузии переехал в Москву и продолжил обучение в Московской консерватории, где окончил исполнительский факультет по классу органа и научно-музыкальный факультет по истории музыки (1926–1928). В те же годы на протяжении двух лет он изучал и композицию на композиторском факультете6.
В те годы культура и, в частности, музыкальная жизнь в Москве буквально кипела, молодые и талантливые люди плодотворно учились, работали и вели активную социальную жизнь, занимались творчеством. Д. И. Гачев вспоминает в одном из писем: «Секретарь нашего факультета, тоже студент и первый органист в консерватории, одновременно и очень хороший пианист (Н. Я. Выгодский – О. Г.), еще в первый месяц пригласил меня к себе, мы уже добрые приятели; часто собираемся, несколько студентов, у него и разбираем Баха, Бетховена и Вагнера. Часто после какого-нибудь концерта он приглашает нас к себе на чай, яблоки и медовые пряники и музыку. И так – до 3–4 часов утра»7.
С I922 года Н. Я. Выгодский работал преподавателем, а с 1932 года –доцентом Московской консерватории, его специализацией была история музыки. Также в течение всех последующих лет он преподавал фортепиано студентам нефортепианных факультетов Московской консерватории.
Н. Я. Выгодский – один из первых органистов, учившихся в послереволюционные годы. В то время орган считался громоздким и скучным инструментом и ассоциировался с чем-то устаревшим и неактуальным. Органная музыка исполнялась чаще всего в костелах и кирхах, и Н. Я. Выгодский со своим творческим подходом стремился изменить это представление. Однако он был не только талантливым органистом, но и автором фортепианных и органных транскрипций. В своем творчестве он нередко удивлял слушателей необычной интерпретацией произведений и авторской регистровкой. Н. Я. Выгодский был широко образованным музыкантом, обладавшим уникальными навыками игры на органе и фортепиано. Его транскрипции для данных инструментов отмечены большим мастерством, однако, к сожалению, большинство из них было утеряно, и сейчас доступны только отдельные произведения8.
С 1931 года он работал и редактором в Музгизе. Кроме этого активно занимался общественной деятельностью, был организатором и руководителем ряда кружков музыкальной самодеятельности, в том числе в Коммунистическом университете им. Свердлова (1921–1925) и на заводе «Каучук» (1933–1935).
Стремление нести музыку в массы всегда было целью жизни Н. Я. Выгодского. Именно поэтому он был активным участником «Российской ассоциации пролетарских музыкантов» и других общественных организаций. Думается, что именно в рамках этого искреннего просветительского стремления, направленного на демократизацию культуры и искусства, он и написал ряд музыкальных критических статей в таких журналах как «Пролетарский музыкант», «Советская музыка» и др., которые не в полной мере выдержали проверку временем.
Талант и человеческие качества Н. Я. Выгодского подтверждаются тем, что он находился в многолетнем тесном творческом и дружеском контакте с такими новаторами в области музыки и музыкальной критики, как А. А. Давиденко, М. В. Коваль, Б. С. Шехтер и другими. Кстати, многие из этих авторитетных деятелей впоследствии будут апеллировать к советскому руководству с просьбой пересмотреть обвинительный приговор Н. Я. Выгодскому, а также требовать его посмертной реабилитации уже после смерти Сталина. В те годы Николай Яковлевич близко общался и с А. В. Луначарским, который любил игру музыканта. Также Н. Я. Выгодский много лет переписывался со всемирно известным писателем, лауреатом Нобелевской премии Р. Ролланом, который был и ученым-музыковедом.
Активная работа продолжалась до начала 1935 года, когда 26 января Н. Я. Выгодский был арестован по ложному обвинению. Вспомним, что после убийства в декабре 1934 года С. М. Кирова, одного из руководителей ленинградской партийной организации и члена Политбюро ЦК ВКП(б) и Президиума ВЦИК СССР, законодательство ужесточилось, а процесс рассмотрения дел о террористических организациях и актах упростился. Еще ранее, в ноябре 1934 года , было создано Особое совещание при НКВД СССР, которому давалось право применять заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до пяти лет и другие виды наказаний. Законодательство было пересмотрено в связи со смертью Кирова, и результатом этих мер стало более жесткое рассмотрение дел и более серьезные наказания для тех, кто совершал террористические акты.
По Постановлению ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года дела обвиняемых по этим преступлениям надлежало рассматривать в ускоренном порядке без участия сторон, исполнение приговоров к высшей мере наказания приводить незамедлительно, не допускалось обжалование приговора. Это постановление ознаменовало новый этап в политике репрессий, которые, как правило, начинались с «верхушки». Но репрессии против партийной номенклатуры, к которой применялось это постановление, были лишь вершиной айсберга.
За что действительно был арестован Н. Я. Выгодский, можно только догадываться. Его карьера следовала по восходящей траектории, он был активным членом РАМП, которая жестко «реформировала» Московскую консерваторию в соответствии с новыми требованиями к культуре9. Многие коллеги Н. Я. Выгодского по Ассоциации впоследствии заняли руководящие посты в советской культуре. По предположению видного специалиста по советской эпохе 1920–1930-х годов Е. С. Власовой, он мог быть арестован и осужден за дружеские и близкие деловые отношения с бывшим директором Московской консерватории Б. С. Пшебышевским, которого осудили в 1933 году и расстреляли спустя несколько лет. Вполне вероятно, что поводом для ареста Н. Я. Выгодского послужил донос, поскольку это было привычной практикой.
Дальнейшие события реконструированы по материалам «Архивного следственного дела № Р-16109 в отношении Выгодского Николая Яковлевича», находящегося в Центральном архиве ФСБ10. Формально арест произошел при следующих обстоятельствах. Ожидая в течение некоторого времени встречи с коллегой у Дорогомиловского моста, Н. Я. Выгодский привлек внимание милиционера, который задержал его и передал в органы госбезопасности. Записка с назначением встречи по стечению обстоятельств не дошла до адресата, и он не смог подтвердить договоренность. За этим последовал арест. Предположительно эти события стали для Н. Я. Выгодского неожиданностью, поскольку, как он указал на допросе, в его планах было поехать 2–3 февраля в Ленинград, чтобы выступить на конкурсе и концерте, к которым он серьезно готовился. Действительно в феврале-марте 1935 года там проводился второй Всесоюзный Конкурс музыкантов-исполнителей по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, пение и др. В его квартире был проведен обыск, при котором были найдена личная переписка, записки, фотографии, книги Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зиновьева (арестованного в декабре 1934 года). Эти находки определили его дальнейшую судьбу.
По поводу одной из записок и фотографии Л. Д. Троцкого Н. Я. Выгодский указал: «… предъявленный мне документ контрреволюционного содержания, написанный моей рукой на листе нотной бумаги, принадлежит мне. Этот документ является записью контрреволюционных высказываний, по моему мнению, полусумасшедшей старухи, примерно 60-70 лет, навещавшей моих соседей по квартире, фамилии которых я не помню… фотокарточка Троцкого принадлежит мне, она мною получена в подарок 10-11 лет назад от одного из студентов Свердловского Университета. Фамилии лица подарившего мне фотокарточку, я не помню…»11. Стоит обратить внимание на то, что Н. Я. Выгодский нашел в себе смелость скрыть имена знакомых и друзей, чтобы не навлечь на них возможные репрессии, а также твердо отказался оговорить себя, признав контрреволюционером, занимавшемся вражеской деятельностью. Наличие фотокарточки Л. Д. Троцкого он объяснил тем, что занимался изучением истории ВКП(б).
Аргументам обвинения способствовала и обнаруженная переписка с братом отца Юделем Ефимовичем Выгодским, который в письмах, по словам следователя, позиционировал себя как сионист, и с сыном директора Тифлисской Консерватории музыкантом и «белоэмигрантом» А. Н. Черепниным. То, что переписка с последним велась до 1925 года и касалась исключительно музыкальной деятельности, очевидно, значения не имело12.
По окончании следствия 10 апреля 1935 года Особое Совещание при Народном Комиссариате Внутренних Дел СССР постановило заключить Н. Я. Выгодского за контрреволюционную деятельность в исправтрудлагерь сроком на 5 лет. Вскоре он был отправлен в Белбалтлаг, где отбывал срок до 1939 года13.
О его жизни в заключении известно достаточно мало. Автор данной статьи обращался в ГИАЦ МВД, архивные подразделения МВД, ФСБ, ФСИН Архангельской области, Республики Карелия, ряда других регионов, куда могли были быть направлены архивные документы о заключении Н. Я. Выгодского, однако отовсюду пришли отрицательные ответы.
При этом память о последнем периоде жизни Н. Я. Выгодского не стерлась полностью. Д. Д. Шостакович, отдавая дань памяти талантливым людям, погибших в результате репрессий, пишет и о нем: «… Мы слишком быстро забыли о Жиляеве и других. Погиб Сергей Попов, очень талантливый человек… Или Николай Выгодский, талантливый органист. Та же самая история. Забыт Болеслав Пшибышевский, ректор Московской консерватории, сын известного писателя. Забыт и Дима Гачев. Он был хорошим музыковедом»14.
Ю. И. Чирков в своих лагерных воспоминаниях называет Н. Я. Выгодского пианистом-виртуозом, ярким участником лагерной концертной бригады. Также он пишет о наступлении 1937 года, перед которым «… состоялся прекрасный новогодний концерт – последний в истории соловецкого театра. Все исполнители, предугадывая это, играли так, как перед смертью, отдавая все свои силы и вдохновение залу. Как пел Привалов, как исполнил Брамса и Рахманинова (2-ой концерт) Выгодский!»15 Есть некая ирония в том, что Н. Я. Выгодский запомнился Ю. И. Чиркову именно как талантливый исполнитель Рахманинова, о творчестве которого он так критично отзывался за несколько лет до этого.
Л. С. Танюк свидетельствует о мифологизации образа Н. Я. Выгодского, «… который будучи посажен в одиночку, якобы оторвал от нар доску, нарисовал на ней клавиатуру и часами играл на этом беззвучном инструменте. Прибежавший комендант, решив, что заключенный сошел с ума, отобрал у музыканта доску и перевел пианиста в Головленковскую крепость»16. Головленковская крепость и еще целых ряд подобных камер на Соловках – это место, где заключенные подвергались жестокому дополнительному наказанию. Тесные и низкие камеры были расположены внутри стен и башен монастыря. В частности, в Головленковской башне камеры имеют размер примерно 1,5 метра в длину и 1 метр в высоту и ширину. В таких камерах нет окон, поэтому внутри всегда было темно. Кроме того, в помещении всегда царит холод и высокая влажность. По сути размещение с такую камеру может означать смертный приговор. Отметим, что Л. С. Танюк обращает внимание, что, скорее всего, вся эта история может быть мифом.
Существует и семейная легенда, которая может иметь основание, но в любом случае не имеет документального подтверждения. Родители рассказывали автору данной статьи о конфликте Н. Я. Выгодского с охранниками на Соловках. Невзирая на запреты и наказания, он продолжал играть на пианино, находившемся в лагере. По словам родственников, однажды за такое поведение Н. Я. Выгодского жестоко избили, и даже сломали или отрубили пальцы, чтобы он больше не смог музицировать. Это стало главной причиной его потери воли к жизни, и вскоре он ушел из жизни.
Интересно, что эта история сама по себе имеет некую мифологическую составляющую, а мифология часто находит отражение в реальных событиях. Широко известна история чилийского певца и гитариста Виктора Хары, который был арестован после переворота Пиночета в 1973 году и отправлен в импровизированный концлагерь, где перед расстрелом подвергался пыткам и избиениям, и в частности, ему при жизни изуродовали руки, чтобы лишить последней надежды и сломить дух.
Скорее всего, на Соловках Н. Я. Выгодский общался с П. А. Флоренским, вероятно, они оба, как ученые, были частыми посетителями библиотеки. В одном из писем П. А. Флоренский пишет о книге М. Я. Выгодского «Галилей и инквизиция»: «Был доволен, что наконец-то в нашей литературе перестали болтать о Галилее глупости, которыми была наводнена она раньше, и твердо отвергаются выдумки. Это тем более приятно, что книга написана именно Выгодским, а не кем-либо другим»17. Можно предположить, что П. А. Флоренский не только высоко оценивает исследование математика, но и делает акцент на знакомстве с его братом.
Последние месяцы жизни Н. Я. Выгодского, как можно догадываться, были трагичными. В заявлении с просьбой посмертно реабилитировать брата, направленном в военную прокуратуру в январе 1955 года, М. Я. Выгодский пишет, что «… весной 1939 года обострившийся костный туберкулез стал угрожать жизни брата…». Узнав об этом, М. Я. Выгодский и заслуженный деятель искусств Г. Г. Нейгауз обратились в НКВД с ходатайством о досрочном освобождении заключенного. Было принято решение о переводе Н. Я. Выгодского в больницу. Однако к этому моменту его уже не было в живых, «… во Владимирской тюрьме, не выдержав длительного пути из Соловецкой тюрьмы, откуда заключенные эвакуировались в другие места заключения»18, Н. Я. Выгодский умер 26 ноября 1939 года, не дожив почти полгода до сорокалетия.
Отдельно необходимо упомянуть о судьбе близких Н. Я. Выгодского. Его жена М. В. Уманская после осуждения мужа была исключена из ВКП(б) и вскоре отправлена в ссылку, где провела почти 20 лет: с 1937 по 1948 год – в Киргизской республике, а позднее вплоть до 1955 года – в Казахстане. В заявлении в прокуратуру, датированным 23 мая 1956 года (вскоре после ХХ съезда КПСС) с требованием ее официально реабилитировать, она не может скрыть эмоций: «… 20 лет ссылки – это очень тяжелое наказание. Это целая жизнь»19. Нужно отметить, что после смерти в 1984 году М. В. Уманская, согласно своему завещанию, была похоронена на Востряковском кладбище в Москве вместе с прахом Н. Я. Выгодского.
Брат Николая Яковлевича Марк Яковлевич Выгодский в 1935 году был также исключен из партии, формально во время партпроверки за пассивность как случайно пробравшийся в партию и не проявивший себя коммунистом, и за протаскивание чуждых марксизму взглядов в упомянутой ранее книге «Галилей и инквизиция», опубликованной годом ранее. Однако мы склонны полагать, что обстоятельством, которое могло послужить толчком для исключения М. Я. Выгодского из партии и застопорить развитие его карьеры, был как раз арест и осуждение брата. В связи с этим представляется правдоподобным, что токсичный шлейф потянулся и к фигуре М. Я. Выгодского, в тот момент активно занимавшегося развитием общественной и научно-педагогической карьеры и чья деятельность находилась под пристальным вниманием коллег по идеологической и научной работе.
Несмотря на то, что исключение М. Я. Выгодского из партии не привело к фатальным последствиям, этот факт оказался серьезным препятствием для дальнейшего развития его научной и общественной карьеры. Парадоксально, но, вероятно, что эти события, тем не менее, оказались спасительными, по крайней мере, для физического выживания его самого и его семьи. С учетом еврейской национальности, непролетарского происхождения, «сомнительных» деталей биографии и «опасных» знакомств, шансы М. Я. Выгодского при последовательном карьерном развитии пасть жертвой «Большого террора» вслед за своим братом Н. Я. Выгодским были велики.
В заключение автор хотел бы кратко рассмотреть образ Н. Я. Выгодского в культурно-историческом контексте. Как мы писали, он был активным участником оставившей недобрую славу РАПМ, однако мы полагаем, что при всей агрессивности в историческом плане ее деятельность сыграла не только негативную и разрушительную для культуры роль. Само по себе стремление к демократизации искусства было позитивным и благородным. Массовость музыкального образования, чьей целью было «подтянуть» уровень слушателей до достойного культурного уровня, оказалась вполне успешной. Поэтому несмотря на радикальную нетерпимость ко всему чуждому пролетариату, и то, что «суждения теоретиков РАПМ страдали вульгарным социологизмом и часто бывали несправедливы по отношению к виднейшим представителям советской музыки и передовым художникам зарубежных стран…», деятельность этой организации принесла и позитивные плоды. Поэтому мы склонны рассматривать фигуру Н. Я. Выгодского как одного из энтузиастов и робеспьеров в сфере искусства и культуры, которые в буквальном смысле пожертвовали жизнью за свои идеалы м убеждения.
Благодарность: автор выражает искреннюю благодарность А. Винтеру, Е. Власовой, Е. Зелинской, Т. Полянской, А. Яковлевой за неоценимую помощь в подготовке настоящей статьи.
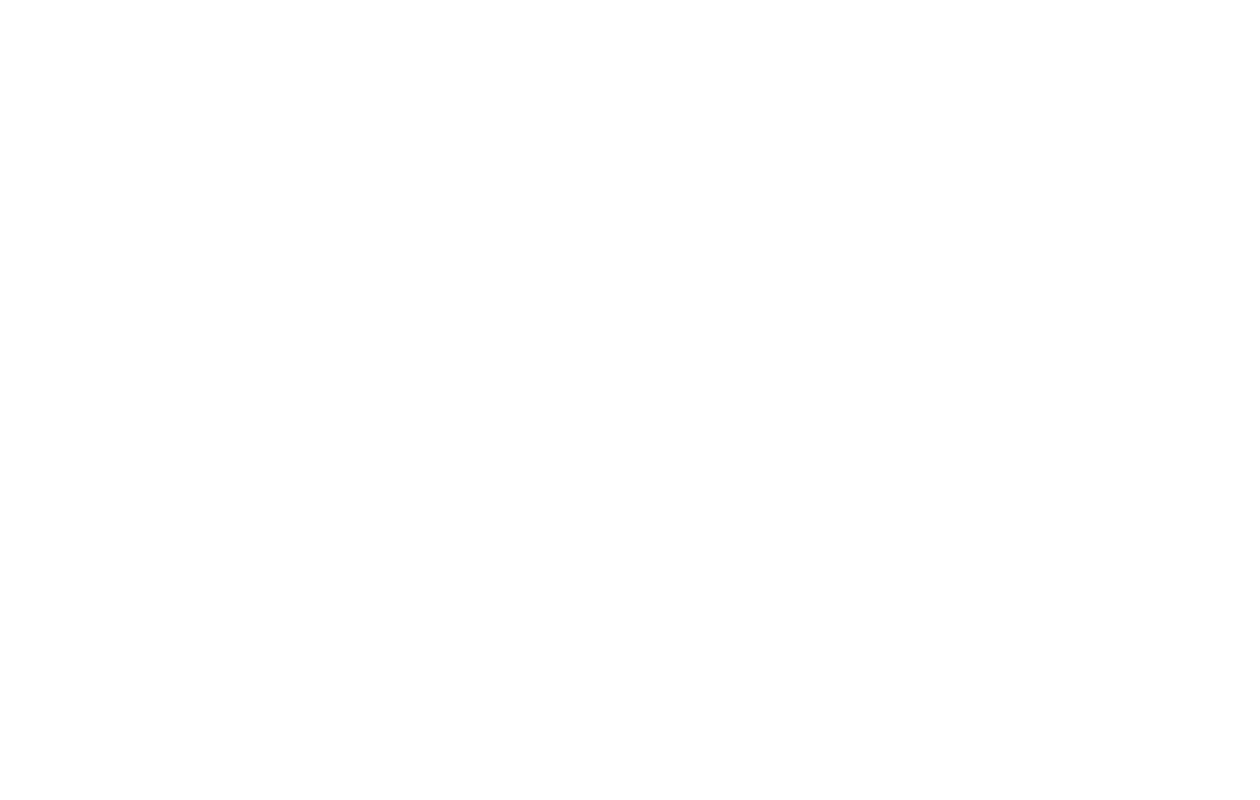
Групповая фотография компании друзей, Выгодский Н.Я. справа, 1920-е гг.
Сноски в тексте:
- Выгодский, Николай Яковлевич // Большая биографическая энциклопедия. – URL: https://clck.ru/34ZkLR (дата обращения: 30.04.2023); Выгодский Н. Я. // Музыкальная энциклопедия. – URL: https://clck.ru/34ZkM5 (дата обращения: 30.04.2023).
- Выгодский Н. Я. Методическая хрестоматия по курсу общего фортепиано. ОГИЗ, 1935.
- Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым // Свидетельство. – URL: http://testimony-rus.narod.ru/Testimony.pdf (дата обращения: 30.04.2023); Чирков Ю. И. А было все так…– URL: https://libcat.ru/knigi/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/348502-yurij-chirkov-a-bylo-vse-tak.html (дата обращения: 30.04.2023); Танюк Л. С. (без даты). «Березиль» под снегами: [Очерк]. НИПЦ Мемориал. Ф. 2. Оп. 8. Д. 149.
- Гачев Г. Д. Воспамятование об отцах. Докум. повествование // Дружба народов. 1989. № 7. С. 161–223.
- Сидляревский Л. Д. Мейчик. Некролог // Труды Белорусского государственного университета в Минске. 1922. № 2–3. С. 365–366.
- Выгодский Н. Я. Личное дело. Архив МГК имени П. И. Чайковского.
- Гачев Г. Д. Воспамятование об отцах: Докум. повествование // Дружба народов.1989. № 7. С. 161–223.
- Биографический очерк о Н. Я. Выгодском и список его произведений (1963). РГАЛИ. Ф. 366.
- Власова Е. С. 1948 год в советской музыке: документированное исследование. М.: Классика-XXI, 2010.
- ЦА ФСБ РФ. Д. Р-16109.
- Там же Л.20.
- Там же Л.26.
- ГА РФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 70530. Л. 2.
- Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым // Свидетельство. – URL: http://testimony-rus.narod.ru/Testimony.pdf (дата обращения: 30.04.2023).
- Чирков Ю. И. А было все так… – // libcat URL: https://libcat.ru/knigi/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/348502-yurij-chirkov-a-bylo-vse-tak.html (дата обращения: 30.04.2023).
- Танюк Л. С. Указ. соч. С. 7.
- Флоренский П. Письма с Дальнего Востока и Соловков. – URL:https://filosoff.org/florenskii/wp-content/uploads/sites/105/2015/11/florenskij-p.-pisma-s-dalnego-vostoka-i-solovkov-filosoff.org_.pdf?ysclid=llzp931gsd63670438 (дата обращения: 01.07.2023).
- ГАРФ. Ф.Р-8131. Оп. 31. Д. 70530. Л. 2.
- Там же Л.18.
- Архив МГК имени П. И. Чайковского. Н. Я. Выгодский. Личное дело.
- ГАРФ. Ф. Р-8131. Оп. 31. Д. 70530.
- ЦА ФСБ РФ. Архивное следственное дело Р-16109 в отношении Выгодского Николая Яковлевича. 1935.
- РГАЛИ. Ф. 366. Биографический очерк о Н. Я. Выгодском и список его произведений. 1963.
- Танюк Л. С.. «Березиль» под снегами: [Очерк]. Ф. 2. Оп. 8. Д. 149. Архивное хранение: б/м. НИПЦ «Мемориал» (б/д).
- Власова Е. С. 1948 год в советской музыке: документированное исследование. М.: Классика-XXI, 2010.
- Выгодский Н. Я. Методическая хрестоматия по курсу общего фортепиано. М.: ОГИЗ, 1935.
- Выгодский, Николай Яковлевич // Большая биографическая энциклопедия. – URL: https://clck.ru/34ZkLR (дата обращения: 30.04.2023).
- Выгодский Н. Я. // Музыкальная энциклопедия. – URL: https://clck.ru/34ZkM5 (дата обращения: 30.04.2023).
- Гачев Г. Д. Воспамятование об отцах: Докум. повествование // Дружба народов.1989. № 7. С. 161–223.
- Постановление ЦИК и СНК СССР «Об Особом Совещании при НКВД СССР». 5 ноября 1934 г. // СУ, № 11, отдел 1, ст. 84. 1935 г.
- Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым // Свидетельство. – URL: http://testimony-rus.narod.ru/Testimony.pdf (дата обращения: 30.04.2023).
- Флоренский П. Письма с Дальнего Востока и Соловков. – // filosoff.org URL:https://filosoff.org/florenskii/wp-content/uploads/sites/105/2015/11/florenskij-p.-pisma-s-dalnego-vostoka-i-solovkov-filosoff.org_.pdf?ysclid=llzp931gsd63670438 (дата обращения: 01.07.2023).
- Чирков Ю. И. А было все так… – // libcat URL: https://libcat.ru/knigi/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/348502-yurij-chirkov-a-bylo-vse-tak.html (дата обращения: 30.04.2023).
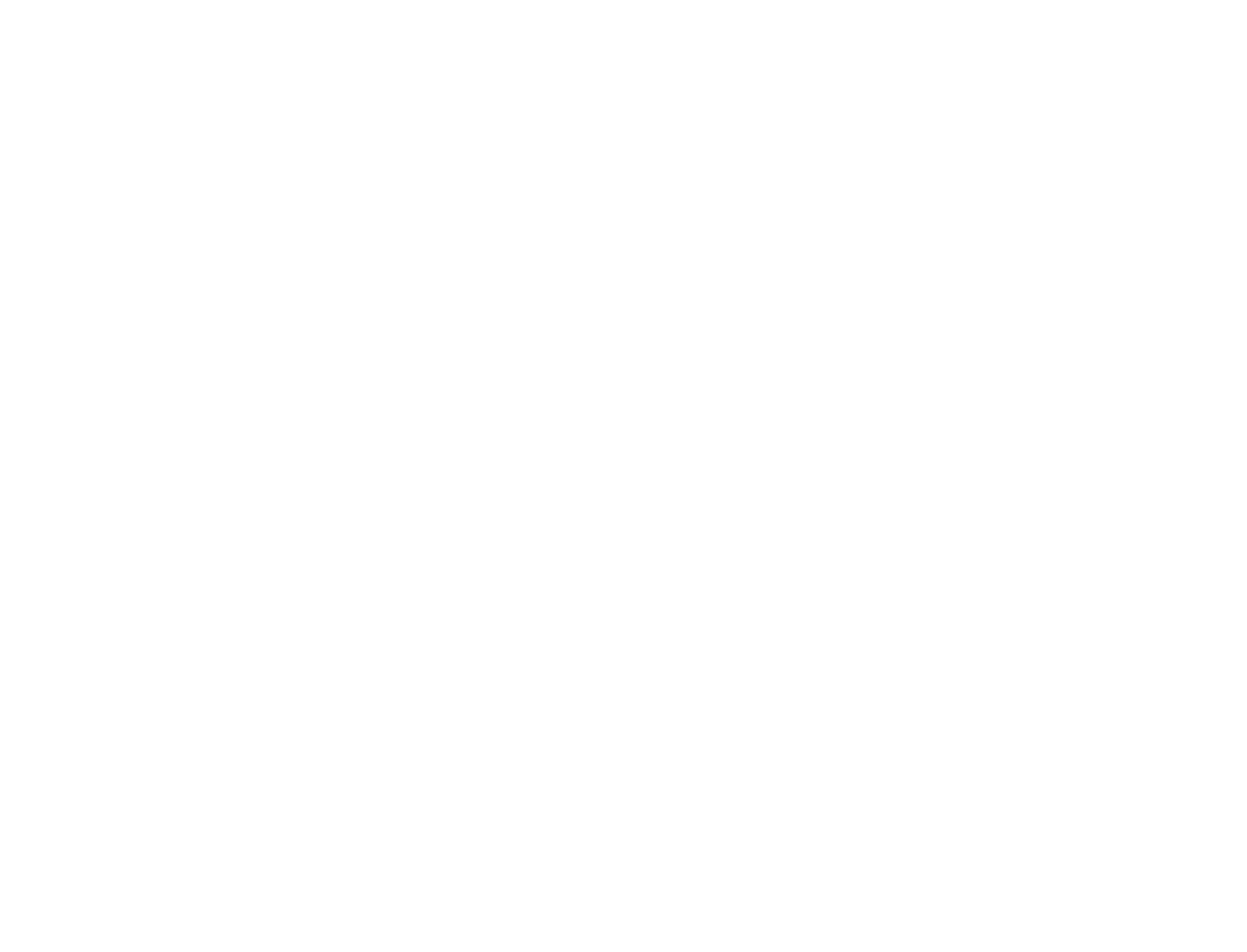
«История страны в судьбах узников соловецких лагерей». Выпуск №8, 2024 г.


