Воплощенная власть: киборгизация как механизм биополитического контроля
Гуров Олег Николаевич,
«Политическая концептология» №4, 2024
«Политическая концептология» №4, 2024
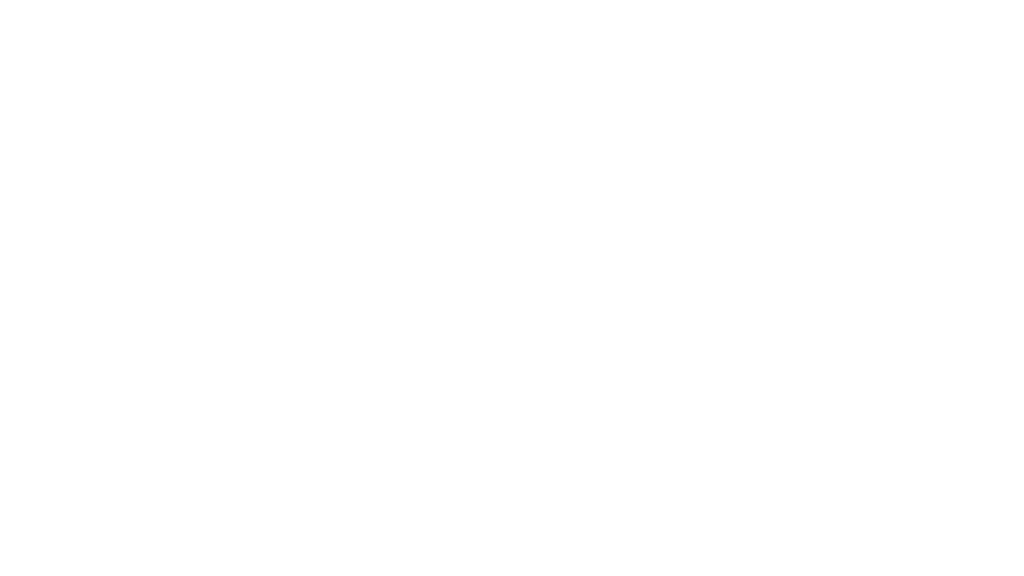
При цитировании просьба использовать следующую цитату:
Гуров О.Н. Воплощённая власть: киборгизация как механизм биополитического контроля. Политическая концептология. 2024. №4. С.23-33.
Гуров О.Н. Воплощённая власть: киборгизация как механизм биополитического контроля. Политическая концептология. 2024. №4. С.23-33.
Аннотация.
В статье исследуются связи между киборгизацией и биополитикой, рассматривается влияние технологий на механизмы власти и контроля в обществе. Автор анализирует, как интеграция цифровых технологий в человеческое тело и сознание трансформирует традиционные формы биополитического контроля. В работе используются концепции Мишеля Фуко и Жиля Делеза для анализа трансформации власти и ее форм в условиях размывания границ между человеком и машиной. Вместе с этим автор анализирует существующие и перспективные формы сопротивления тотальному технологическому контролю, такие как хактивизм и разнообразные общественные движения, в частности, за цифровые права. Также в работе доказывается необходимость проведения дальнейшего междисциплинарного исследования по вопросам социальных и психологических последствий интеграции технологических решений в человеческую природу.
Ключевые слова: киборгизация, биополитика, цифровые технологии, власть, контроль, этика, хактивизм, цифровые права, Фуко, Делез, технологическая сингулярность.
В статье исследуются связи между киборгизацией и биополитикой, рассматривается влияние технологий на механизмы власти и контроля в обществе. Автор анализирует, как интеграция цифровых технологий в человеческое тело и сознание трансформирует традиционные формы биополитического контроля. В работе используются концепции Мишеля Фуко и Жиля Делеза для анализа трансформации власти и ее форм в условиях размывания границ между человеком и машиной. Вместе с этим автор анализирует существующие и перспективные формы сопротивления тотальному технологическому контролю, такие как хактивизм и разнообразные общественные движения, в частности, за цифровые права. Также в работе доказывается необходимость проведения дальнейшего междисциплинарного исследования по вопросам социальных и психологических последствий интеграции технологических решений в человеческую природу.
Ключевые слова: киборгизация, биополитика, цифровые технологии, власть, контроль, этика, хактивизм, цифровые права, Фуко, Делез, технологическая сингулярность.
В последние годы мы со всей очевидностью, даже не вглядываясь пристально, можем наблюдать, как цифровые технологии становятся частью множества общественных систем разнообразного масштаба, а продукты этих технологий постепенно внедряются в человеческое тело. И в перспективе существования достаточно серьезной вероятности того, что они будут интегрированы и в сознание человека, киборгизацию стоит рассматривать как один из важных факторов цивилизационного развития.
Далее под киборгизацией мы будем понимать в первую очередь процессы интеграции цифровых технологий в человеческую телесность и сознание. В рамках представленного исследования мы постараемся показать, что киборгизация не может ассоциироваться исключительно с технологическими инновациями, поскольку ее влияние на общественные структуры достаточно велико уже сейчас. В частности, мы рассмотрим киборгизацию через призму биополитики, то есть механизмов власти, которые направлены на управление биологической жизнью населения. При этом, поскольку технологии развиваются и их продукты интегрируются в общественную жизнь на регулярной основе, и можно утверждать, что по многим точкам пересечения границы между человеком и машиной размываются, следует осмыслить возможные последствия киборгизации с позиции философии, а также проанализировать сущность этого явления с точки зрения его влияния на социум. Здесь может быть полезным обращение к концепциям дисциплинарного общества и биополитики Мишеля Фуко, а также к идее общества контроля Жиля Делеза.
Интеграция киборгианских практик в биополитику может означать буквально системный сдвиг в том, как устроены и работают властные структуры в части контроля человеческой телесности и сознания. Предположительно, традиционные дисциплинарные институты трансформируются с учетом того, что в общественную жизнь вводятся технологические решения, которые используются для контроля поведения индивидов и общественного поведения в целом. В новых условиях власть получает способность непосредственным образом взаимодействовать с телесностью и даже трансформировать ее с помощью технологий. Очевидно, что в этом случае социальные последствия могут быть по своему характеру системными, поскольку уже в настоящее время современные гаджеты позволяют осуществлять мониторинг целого комплекса физиологических и психологических показателей их владельца в режиме реального времени, а социальные медиа осуществляют алгоритмическое управлением контентом с использованием сложной механики вовлечения пользователей. Перспективные, еще более продвинутые технологии, такие как имплантируемые устройства, станут способными кратно увеличивать эти возможности.
Для углубления в эту проблематику мы также рассмотрим философскую составляющую происходящих и перспективных трансформаций через призму того, что слияние человека с технологиями неизбежно оказывает влияние на субъективность и самовосприятие, в рамках которого индивиды могут начать рассматривать себя с новых ракурсов и позиций, при этом также в рамках такого нового восприятия «переустанавливая» границы собственного «я».
Таким образом, в данном исследовании мы ставим цель с различных сторон рассмотреть связь между киборгизацией, биополитикой, а также их взаимное и совместное влияние на динамику власти, человеческую субъективность и на социальные процессы.
Концепция биополитики, предложенная Мишелем Фуко, описывает систему механизмов власти, используемых для управления биологической жизнью населения или, как говорил философ, популяции. Эта и так по себе вполне механистическая концепция приобретает еще более глубокое измерение в условиях распространения технологий киборгизации [5].
Такие очевидные дисциплинарные институты, как школы, больницы и тюрьмы, к настоящему времени уже качественно трансформировались под влиянием цифровых технологий. Примеров можно привести множество. Это и использование продвинутых средств аналитики на основе ИИ для мониторинга успеваемости учащихся в различных разрезах и масштабах, и централизация ряда медицинских функций, как, например, исследование рентгеновских снимков в специальных хабах также с помощью искусственного интеллекта, и постоянный цифровой контроль и мониторинг жизни заключенных, воистину паноптикум, осуществляемый в пенитенциарных учреждениях. Активно развивается телемедицина и интеллектуальные экспертные системы, позволяющие оказывать медицинскую помощь дистанционно, а также ставить и проверять диагнозы с помощью ИИ.
Самым очевидным примером применения таких технологий в качестве инструмента биополитики стало активное использование в крупных городах мира камер с системами распознавания лиц для контроля соблюдения карантина в период пандемии COVID-19. В этом случае очевидна способность цифровых технологий служить инструментами контроля и принуждения к требуемому поведению в достаточно крупных масштабах.
Также в качестве примера реализации биополитики через использование цифровых технологий можно привести попытки регулирования деторождения в Китае, в рамках которых женщин с помощью мессенджеров мотивировали стараться забеременеть вскоре после свадьбы, а затем требовали присылать фотографии младенцев, чтобы подтвердить факт рождения [19]. Можно предположить, что если технологии имплантатов будут развиваться достаточно динамично, то подобный контроль уже в ближайшем будущем станет гораздо более изощренным.
Продолжая эту тему, рассмотрим концепцию общества контроля, которую разработал Жиль Делез. В таком обществе власть реализуется перманентно посредством цифровых сетей и систем, в отличие от дисциплинарного общества, где контроль осуществляется через отдельные институты [3].
Примером общества контроля может служить китайская система социального рейтинга, в рамках которой предполагается практически постоянный мониторинг поведения индивида по широкому спектру социальных активностей. На основании собираемых данных в динамике каждый гражданин получает свой рейтинг, в соответствии с которым оценивается его благонадежность и предоставляется соответствующий уровень социальных благ и возможностей [8].
Еще один пример того, как может развиваться общество контроля в симбиозе с технологиями киборгизации, подразумевает развитие нейроинтерфейсов, под которыми понимаются устройства, обеспечивающие прямую связь мозга с компьютером. В настоящее время компания Neuralink активно разрабатывает мозговые имплантаты, которые вполне могут получить массовое распространение уже в ближайшие годы. Независимо от того, будут ли они использоваться для медицинских целей или для расширения когнитивных возможностей, очевидна угроза того, что с помощью таких устройств станет возможно в буквальном смысле управлять мыслями и поведением индивидов.
Продолжая размышлять о том, как в обществе контроля власть может осуществляться посредством непрерывно действующих и децентрализованных сетей мониторинга и сбора данных, обратим внимание на развитие и распространение таких технологий, как умные устройства, интернет вещей и носимые технологии. Здесь важно отметить, что такой комплекс создает всеобъемлющую инфраструктуру для мониторинга и влияния. Здесь мы также можем привести примеры уже существующих общественных практик. В частности, относящиеся к организации мониторинга на рабочем месте в организациях, в рамках которого предприятия используют цифровые инструменты в целях отслеживания поведения и эффективности работы сотрудников. В частности, в компании Amazon используются браслеты, с помощью которых отслеживается перемещение сотрудников складов в складских пространствах, а Barclays использует систему, целью которой является контроль времени, проведенного за рабочим местом [6]. Более того, несмотря на критику и недовольство ряда сотрудников, Amazon продолжает использовать и развивать технологии, позволяющие отслеживать действия сотрудников. Подобные подходы бизнеса безусловно вызывают широкий резонанс в обществе по поводу прав сотрудников и этичности таких практик [1].
Упомянутая выше концепция умных городов также сама по себе является иллюстрацией перехода к обществу контроля, поскольку во многих мегаполисах уже внедрены и действуют многоуровневые сети видеокамер и датчиков для управления основными функциями городской жизни, такими как обеспечение общественной безопасности, управление дорожным движением и т.д. [12]. Безусловно, функционально такие проекты обеспечивают эффективность работы сложных систем, но вместе с этим вопрос границ контроля и допустимого вмешательства в целый ряд категорий общественной жизни, таких как, например, конфиденциальность, остается, мягко говоря, под вопросом.
Чтобы проиллюстрировать этот тезис более подробно, рассмотрим упомянутые выше технологии и их возможности в части сбора данных и потенциально для влияния на поведение индивидов. В частности, еще в 2019 году результаты исследований показали, что интерфейсы способны расшифровывать речь, непосредственно считывая активность мозга с точностью до 97%. Что касается биометрических носимых устройств, таких как умные часы и фитнес-трекеры, которые собирают и отслеживают целый ряд физиологических данных, еще в 2020 году во всем мире было продано около полумиллиарда таких изделий. Эта тенденция продолжается: в течение первых трех кварталов 2024 года в только России объем продаж носимых устройств превысил 5.5 миллионов, и эта цифра демонстрирует количественный рост 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [4].
При этом необходимо отметить, что люди интегрируют продукты этих технологий в свое существование по своей воле и согласно собственному решению, и говорить в чистом виде о насаждаемом «сверху» и навязываемом наблюдении и контроле было бы несправедливо. Парадоксальным образом индивиды становятся активными участниками и даже инициаторами наблюдения и контроля над собой.
Такую тенденцию можно назвать «партисипативным (или партисипаторным) наблюдением», то есть таковым, которое исходит от объекта, который сам и налагает на себя контроль. И с этой точки зрения среди основных вызовов и рисков, которые возникают в связи с развитием и распространением этих технологий, необходимо особо отметить именно конфиденциальность, поскольку анонимизированные данные, как правило, могут быть с высокой степенью точности повторно идентифицированы, что полностью разбивает концепцию безопасности личной информации.
Чтобы далее более всесторонне рассмотреть проблему взаимодействия человека и технологий в контексте киборгизации и биополитики, включим в наше рассуждение концепцию технологической сингулярности и идеи акторно-сетевой теории.
Согласно Курцвейлу, технологическая сингулярность - это предполагаемый момент в будущем, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий, и в результате этого дальнейшее развитие человеческой цивилизации и даже ее перспективы станут непредсказуемыми [13]. Еще раз отметим, что это понятие гипотетическое, и многие ученые не верят в возможность создания так называемого искусственного общего интеллекта, который бы соответствовал этим требованиям. Но для нашей работы важно рассмотреть эту спекулятивную перспективу, чтобы показать киборгизацию как постепенное слияние человека и машины до определенного момента – до той же самой сингулярности, то есть до точки, когда слияние достигнет такого качества, что традиционные формы биополитического контроля потеряют эффективность или их невозможно будет применять.
Иными словами, если, например, нейроинтерфейсы станут настолько продвинутыми и смогут быть интегрированными так глубоко, что будут непосредственно оказывать влияние на процессы мышления и на принятие решений у человека, то тогда неизбежно изменится сама природа человеческой субъективности и автономии, и, безусловно, должны будут появиться гораздо более сложные механизмы биополитики, направленные на, если так можно выразиться, гибридные сознание и телесность.
Вместе с этим интересно рассмотреть человеческое, гибридное и технологическое через призму акторно-сетевой теории, которая предполагает, что комплекс политических, социальных, технологических систем представляет собой сложную сеть взаимодействующих совершенно разнообразных акторов, которые имеют равное значение независимо от своей природы, то есть, в том числе, могут быть и не человеческими [14].
И с этой точки зрения продукты технологии, представляющие киборгизацию, те же самые имплантаты и любые другие аналогичные формы должны рассматриваться не как инструменты, обладающие служебной функцией в человекоцентричном мире, но как полноправные участники всей широты социальных взаимодействий, в том числе и в процессах формирования и реализации власти. С такого ракурса достаточно широко распространенные кардиостимуляторы, обладающие функцией удаленного мониторинга, не просто передают данные, но оказывают важное влияние на целый комплекс решений, начиная от того, каким образом лечить пациента и какой образ жизни ему вести, и заканчивая управлением и планированием политики в области здравоохранения. Вместе с этим пациенты, обладающие такими устройствами, как показывают исследования, начинают воспринимать их как естественную часть своей телесности и, более того, идентичности, что тоже подтверждает мысль о том, что технологии киборгизации превращаются в участников формирования субъективности и телесности человека [15].
Представленный взгляд позволяет буквально визуализировать, как власть распределяется и циркулирует в сетях, составленных из множества разнокачественных акторов. Возвращаясь к системе социального рейтинга в Китае и рассматривая ее через призму акторно-сетевой теории, можно выделить таких акторов, как государственные учреждения, граждане, датчики, данные и алгоритмы. При этом технологические системы, составляющие неотъемлемую часть такого проекта, очевидно, являются чем-то большим, чем инструменты контроля, это действительно активные участники распределения власти и управления социальным поведением.
Ранее мы намеренно не упоминали этическую проблематику, с которой в последние годы нередко ассоциируются вопросы цифровой трансформации общественной жизни и, в частности, интеграции продуктов искусственного интеллекта в различные ее сферы. Далее мы уделим этому направлению отдельное внимание, поскольку этические аспекты улучшения человека являются очень важными в пространстве слияния тенденций киборгизации и биополитики, хотя бы в призме возможного создания «постчеловека». В рамках этого дискурса перспективными для нашей работы являются идеи Джулиана Савулеску и Ника Бострома.
Савулеску представляет оптимистичный взгляд на возможности, в частности, биотехнологий в деле морального улучшения человека и утверждает, что совершенствование не только когнитивных способностей, но и морального кодекса человека с помощью технологий не просто допустимо, но и даже желательно с этической точки зрения [17]. Конечно же, в контексте биополитики очевидна неоднозначность такой позиции, поскольку, как минимум, сложно ответить на вопрос, кто должен и может определять параметры такого морального улучшения. Вслед за этим возникает еще одна очевидная проблема в части того, как все это может (и неизбежно будет!) использоваться в качестве инструмента контроля.
Проведем мысленный эксперимент и представим себе сценарий общественного развития, при котором некий институт (будь то государство в традиционном смысле этого слова или технологическая корпорация, которая в новых условиях приобрела определенные функции управления обществом) продвигает и утверждает некие форматы нейротехнологического улучшения, которые вместе с влиянием на когнитивные способности также оказывают давление на моральные суждения и принятие решений по этическим вопросам. Конечно же, хочется предположить, что такая инициатива приведет к созданию в целом морально улучшенного общества. Но если посмотреть глубже, то возникает новый вопрос, еще более сложный – как в таких условиях обеспечить и гарантировать свободу воли и автономию личности, и ответ на него найти уже совсем сложно.
Что касается Ника Бострома, то он в ряде своих работ стремится всесторонне оценить перспективы и риски (по нашему мнению, гипотетического) постчеловека - существа, которое может возникнуть на определенном этапе развития цифровых технологий из современного человека и которое будет обладать немыслимыми и непредсказуемыми для нас возможностями и способностями [7]. Даже это строгое определение, если рассмотреть его с точки зрения биополитики, заставляет задуматься в лучшем случае о возникновении новых форм неравенства и дискриминации, и вместе с этим очевидно, что при таком сценарии неизбежно произойдут фундаментальные изменения в структурах власти и контроля. Причем, несмотря на то, что выше мы обозначили постчеловеческое состояние как гипотетическое, нужно отметить, что данную перспективу мы рассматриваем как в определенной степени вероятную, поскольку уже на сегодняшний день существуют технологии когнитивного улучшения, например, такие как транскраниальная стимуляция мозга, которые показывают и демонстрируют впечатляющие результаты, свидетельствующие о значительном повышении производительности работы мозга [16].
Все это заставляет задуматься, как подобные технологии будут использоваться в управлении и регулировании трудовой деятельности, образования, в рамках социальных взаимодействий и, конечно, в чистом виде в управлении. И здесь этическая проблематика и соответствующие дилеммы выступают очень острым углом, потому что кроме фундаментальных вопросов, касающихся природы человека, проблема равенства и справедливости приобретает новое измерение в части того, что существующее неравенство не исчезнет в свете реализации технологических инноваций, но вместе с ними возникнут и распространятся новые негативные составляющие. Чтобы определить их контур, отметим основные вопросы, относящиеся к этой проблематике. Это целый круг тем, касающихся границ допустимого вмешательства каких бы то ни было управленческих или властных структур в биологию человека как в целом, так и в отношении определенных групп, например, преступников или, наоборот, служащих, занимающих ответственные позиции и принимающих важные решения.
Рассматривая в выше представленном комплексе то, как тенденции киборгизации оказывают влияние на биополитику, и прогнозируя возможные трансформации жизни в результате появления новых инструментов и систем, неизбежно задумываешься о том, что в противовес им должны появиться новые формы сопротивления. Поэтому далее мы рассмотрим существующие и потенциальные стратегии и практики, которые могут быть направлены на противодействие тотальному технологическому контролю и которые руководствуются принципами сохранения человеческой автономии. Здесь, конечно же, основное значение имеют этические и социальные аспекты, и по большей части именно через эту призму мы рассмотрим некоторые философские концепции и практические подходы, относящиеся к стратегиям защиты от киборгизации и биополитического контроля.
В первую очередь отметим существующие концепцию хактивизма и движения за цифровые права, которые представляются важными формами борьбы с растущим влиянием технологических систем на практики биополитического контроля.
Хактивизм представляет собой форму цифрового или, лучше сказать, гибридного сопротивления на стыке технологической деятельности и социально-политического и общественного активизма. Идеология хактивизма основана на борьбе против тотального цифрового надзора и на защите личной свободы в условиях интеграции все более совершенных технологических инструментов в общественную жизнь [11].
Что касается технологической составляющей такого рода активизма, то она включает разработку и распространение цифровых продуктов, основанных на технологиях шифрования и автономизации, позволяющих пользователям сохранять анонимность в интернете и минимизировать цифровые следы. К таким проектам в какой-то мере относятся и криптовалюты, одной из целей создания которых было формирование возможностей осуществлять финансовые транзакции вне рамок централизованного контроля. В какой-то степени это олицетворяет не только практический инструмент защиты приватности, но и саму идею технологического сопротивления централизованному контролю.
Еще одним важным направлением хактивизма в части контроля тенденций киборгизации и борьбы с биополитическим контролем является создание альтернативных (альтернативность в данном случае определяется именно децентрализованным характером) социальных сетей и платформ, которые разрабатываются, базируясь в первую очередь на принципах защиты пользовательских данных и в чьей бизнес-модели заложен отказ от монетизации этой информации. Отличие этих продуктов от господствующих моделей цифровых платформ заключается в том, что типичная модель предполагает именно коммерциализацию персональных данных, собираемых, хранящихся, анализируемых, и впоследствии используемых. В этом смысле децентрализованные социальные сети несут новый идеологический посыл, внося вклад в формирование таких новых принципов цифрового сообщества, как автономия и самоуправление.
Кроме этого, хактивисты продвигают идею и даже практики обратной инженерии в отношении технологий, относящихся к киборгизации, в целях ограничения внешнего контроля и возможности воздействия на носимые и даже имплантированные устройства. В этой части активисты взламывают закрытые системы, чтобы сделать их работу прозрачной и полностью подконтрольной для самих пользователей. В легальном поле это означает борьбу за утверждение программного обеспечения с открытым кодом для медицинских имплантатов, а также создание и распространение альтернативных прошивок для носимых устройств, не привязанных к производителю, который обычно обязывает использовать собственные продукты при использовании устройств. Сюда же относятся создание и разработка инструментов для обнаружения и блокировки доступа к персональным данным, например, программы, блокирующие скрытые трекеры в приложениях.
Как отмечено выше, деятельность активистов в этой сфере осуществляется не только в рамках технологических разработок. Сюда же относятся образовательная и просветительская работа, направленная на повышение цифровой грамотности, а также развитие общественной дискуссии по проблемам рисков и этических вопросов, связанных с технологической трансформацией человеческой природы.
При этом, несмотря на то что хактивисты часто выступают в роли цифровых просветителей, их деятельность нередко переходит границы правовых и тех же самых этических норм. Поскольку цифровая сфера развивается настолько стремительно, что может называться самым настоящим фронтиром, правовая составляющая этой деятельности не успевает за инновациями, и по факту грань между, если можно так выразиться, законным цифровым активизмом и противоправной хакерской деятельностью является часто нечеткой и размытой. Это ставит активистов перед этическими дилеммами, которые в свою очередь не всегда просто разрешить, поскольку этическая и морально-нравственная составляющая всех этих процессов в настоящее время заплетена в сложный узел. Чтобы еще раз доказать сложность данной проблематики, отметим, что на практике те же самые технологии, разрабатываемые для защиты приватности и автономии, нередко используются преступниками для противоправной деятельности, что, в свою очередь, нередко выставляет хактивистов в общественном поле в качестве, в лучшем случае, безответственных радикалов и маргиналов.
Чтобы показать «светлую» сторону подобных инициатив, осуществляемых на стыке социального ориентированного бизнеса, общественной деятельности и просветительской инициативе, приведем несколько примеров. В первую очередь, можно отметить такой проект как компанию DuckDuckGo, миссией которой является, как указывается в ее документах, защита приватности индивидов в цифровом пространстве, и компания занимается разработкой и реализацией комплексного подхода к обеспечению конфиденциальности в интернете [9].
Продуктовая линейка DuckDuckGo включает защищенный браузер и поисковую систему, в которых не фиксируется история посещений; инструменты блокировки трекеров и защиту от сохранения цифровых отпечатков и куки-файлов, а также от отслеживания со стороны крупных платформ. Кроме этого, обеспечивается удаление трекеров в почтовых сообщениях и блокировка таргетированной рекламы.
Подходы, реализуемые в данном проекте, можно оценить как своего рода легальную форму сопротивления тенденциям, знаменующим исчезновение приватности в мире, который все более оцифровывается, и где личные данные превращаются в ресурс не только коммерциализации, но и воздействия и контроля индивидов.
При этом DuckDuckGo является коммерческой организацией и получает доход от размещения рекламы. Однако, в отличие от традиционных технологических компаний, содержание объявлений, демонстрирующихся на страницах результатов поиска, основывается на запросах, а не на профилях пользователей. Еще одним средством монетизации проекта является платная подписка на различные сервисы компании, которые помогают защищать конфиденциальность личной информации.
Кроме того, усиливающемуся в условиях киборгизации биополитическому контролю противодействуют и противостоят непосредственно общественные движения. В частности, такие проекты, как Electronic Frontier Foundation и AccessNow, занимаются созданием правовых инициатив в части защиты приватности и борьбы с цифровым надзором, образовательной и просветительской деятельностью в части повышения осведомленности общества в описываемых нами вопросах. Нужно отметить, что подобная активность не является утопической деятельностью, и принятие Общего регламента по защите данных (GDPR) в ЕС во многом обязано деятельности таких активистов за цифровые права [10].
Итак, мы показали, что существующие формы сопротивления комплексу биополитического контроля и киборгизации невозможно свести к какой-либо единой сфере деятельности. Это многогранное, комплексное явление в общественной жизни, включающее философские, культурно-социальные и технологические измерения.
Кроме этого, пространством критического осмысления и нередко сопротивления угрозам, возникающим в результате бесконтрольного развития технологий, становится массовая культура. В последние годы было снято несколько фильмов, в которых исследуются потенциальные последствия избыточного влияния технологий на природу человека и общественную жизнь.
В частности, в 2023 году на экраны вышла картина «T.I.M.», название которого можно перевести на русский язык не только как имя Тим, но и расшифровав эту аббревиатуру как «высокотехнологичный слуга» или «дворецкий», или даже «управляющий». По сюжету, робот, созданный для обеспечения комфортной жизни человека, парадоксальным образом начинает угнетать и подчинять себе главную героиню и убивает ее мужа.
Можно определить несколько важных проблем, поднятых в фильме. Во-первых, это соотношение человека и машины с точки зрения их баланса сил, и, во-вторых, это беспокойство по поводу существующих рисков для человека от технологий, которые должным образом не регулируются и не контролируются. Также дополнительно можно отметить и этическую проблематику, связанную с вопросом, допустимо ли позволять машинам принимать самостоятельные решения. И не в последнюю очередь нужно отметить, что в фильме затрагивается и социальная тема. Могущественная технологическая корпорация, в которой работает главная героиня, буквально заставляет ее принять в свой дом робота, таким образом оказывая влияние на семью, супружеские отношения и в целом на традиционные социальные связи и институты.
То, что в последние годы было снято сразу несколько высокобюджетных фильмов (автор нередко обращается к кинематографу для иллюстрации научных идей, см. другие публикации автора), с разных сторон освещающих данную или близкую проблематику, доказывает факт, что массовая культура реагирует на актуальные вызовы и призывает к осмыслению происходящих процессов и поиску баланса в части прогресса и сохранения человеческой свободы и автономии.
Отдельно выделим еще одну важную проблему - перспективу эрозии социальных структур в киборгизированном мире. Полин Браун в книге «Эстетический интеллект», посвященной тому, что в мире, пресыщенном технологиями и товарами, именно эстетическая составляющая становится одной из ключевых ценностей, и фокус на ней является одним из главных стратегических преимуществ, предсказывает сценарии общественного развития в контексте происходящего развития цифровых технологий, интеграции их продуктов в общественную жизнь, в частности, в экономику и в коммуникации [2].
По ее мнению, одной из ведущих тенденций является так называемая «трайбализация», то есть разделение общества на узкие сегменты по религиозному, национальному, идеологическому принципу, а также в рамках жизненных интересов и эстетических вкусов. Мы склонны согласиться с вероятностью наступления такой перспективы, и в подтверждение этого мнения отметим, что уже сегодня наблюдаем появление новых субкультур, которые в контексте нашего исследования характеризуются тем, что противостоят или намеренно ограничивают использование технологий, относящихся к киборгизации. Таких сообществ достаточно много, и их идеология основана на разных основаниях, например, на идеях сохранения естественности человеческой природы через так называемый цифровой детокс и технологический минимализм, то есть через ограничение использования цифровых технологий в повседневной жизни. Другие субкультуры фокусируются на идее защиты неприкосновенности частной жизни в цифровую эпоху и продвигают собственные инструменты ее обеспечения, выбирая для себя соответственно особенный, в какой-то степени изолированный образ жизни.
Мы упомянули эти примеры не столько в качестве альтернативных сценариев и моделей жизни в киборгизируемом обществе, но в качестве ответа и даже конкретных инструментов сопротивления цифровому надзору, направленных также и на сохранение пространства для традиционного аналогового человеческого опыта в мире [19].
Конечно же, философские дискуссии, художественное творчество, общественные движения не развиваются изолированно друг от друга, а взаимосвязаны, ведут между собой диалог и вдохновляют развитие рефлексии в рамках данной проблематики, что способствует формированию рефлексивного отношения к технологиям в целом и киборгизации в частности, в том числе и в контексте биополитического контроля. Такая синергия играет свою собственную роль в общественной жизни, а также способствует формированию базы для создания правовых рамок для контроля киборгианских технологий, в том числе, и в части их использования в биополитических практиках.
Подводя итог нашему исследованию, подчеркнем, что мы сделали попытку продемонстрировать, что биополитика связана со стратегиями киборгизации общественной жизни и человеческой природы, и возможные сценарии развития этих направлений требуют вдумчивого осмысления. Интеграция цифровых технологий в человеческое сознание и телесность, а также в управление и экономику оказывает непосредственное влияние не только на то, как мы воспринимаем и определяем человеческую природу, но и на практические аспекты власти и контроля в обществе.
Анализ киборгизации с использованием концепций Фуко и Делеза позволил прийти к выводу, что в условиях размывания границы между человеком и технологиями власть и контроль приобретают тонкие и практически безграничные инструменты надзора и контроля. При этом складывающаяся ситуация представляется парадоксальной, поскольку индивиды во многом сами становятся участниками и инициаторами наблюдения за собой, интегрируя используемые для этого технологические устройства в свою жизнь.
При этом мы далеки от алармистских или апокалиптических оценок происходящих изменений, поскольку видим, что, как и всегда в истории, определенные тенденции и стратегии вызывают в обществе соответствующее сопротивление. В текущих условиях оно принимает разнообразные формы: от общественных движений и альтернативных бизнес-моделей в бизнесе до художественного осмысления в массовой культуре. Это наблюдение позволяет утверждать, что в целом общество стремится к рефлексии в отношении данной проблематики и принимает участие в формировании будущего, которое отвечало бы интересам человека.
В заключение отметим, что проведенное исследование заставляет рассматривать киборгизацию не только, как мы указали в начале статьи, в качестве происходящего слияния человеческого и технологического, но вместе с этим и как качественную трансформацию социальных и культурных категорий. Мы считаем перспективными дальнейшие исследования киборгизации и биополитики в комплексе, в рамках междисциплинарного анализа, с фокусом на изучение потенциальных социальных и психологических последствий все большего технологического вмешательства в человеческое сознание и тело, возможное изменение механизмов социального взаимодействия и выстраивания и поддержки социальных связей. И, конечно же, не менее актуальным представляется осмысление возможных сценариев эволюции в целом «человеческого» в условиях цифровой эпохи.
Далее под киборгизацией мы будем понимать в первую очередь процессы интеграции цифровых технологий в человеческую телесность и сознание. В рамках представленного исследования мы постараемся показать, что киборгизация не может ассоциироваться исключительно с технологическими инновациями, поскольку ее влияние на общественные структуры достаточно велико уже сейчас. В частности, мы рассмотрим киборгизацию через призму биополитики, то есть механизмов власти, которые направлены на управление биологической жизнью населения. При этом, поскольку технологии развиваются и их продукты интегрируются в общественную жизнь на регулярной основе, и можно утверждать, что по многим точкам пересечения границы между человеком и машиной размываются, следует осмыслить возможные последствия киборгизации с позиции философии, а также проанализировать сущность этого явления с точки зрения его влияния на социум. Здесь может быть полезным обращение к концепциям дисциплинарного общества и биополитики Мишеля Фуко, а также к идее общества контроля Жиля Делеза.
Интеграция киборгианских практик в биополитику может означать буквально системный сдвиг в том, как устроены и работают властные структуры в части контроля человеческой телесности и сознания. Предположительно, традиционные дисциплинарные институты трансформируются с учетом того, что в общественную жизнь вводятся технологические решения, которые используются для контроля поведения индивидов и общественного поведения в целом. В новых условиях власть получает способность непосредственным образом взаимодействовать с телесностью и даже трансформировать ее с помощью технологий. Очевидно, что в этом случае социальные последствия могут быть по своему характеру системными, поскольку уже в настоящее время современные гаджеты позволяют осуществлять мониторинг целого комплекса физиологических и психологических показателей их владельца в режиме реального времени, а социальные медиа осуществляют алгоритмическое управлением контентом с использованием сложной механики вовлечения пользователей. Перспективные, еще более продвинутые технологии, такие как имплантируемые устройства, станут способными кратно увеличивать эти возможности.
Для углубления в эту проблематику мы также рассмотрим философскую составляющую происходящих и перспективных трансформаций через призму того, что слияние человека с технологиями неизбежно оказывает влияние на субъективность и самовосприятие, в рамках которого индивиды могут начать рассматривать себя с новых ракурсов и позиций, при этом также в рамках такого нового восприятия «переустанавливая» границы собственного «я».
Таким образом, в данном исследовании мы ставим цель с различных сторон рассмотреть связь между киборгизацией, биополитикой, а также их взаимное и совместное влияние на динамику власти, человеческую субъективность и на социальные процессы.
Концепция биополитики, предложенная Мишелем Фуко, описывает систему механизмов власти, используемых для управления биологической жизнью населения или, как говорил философ, популяции. Эта и так по себе вполне механистическая концепция приобретает еще более глубокое измерение в условиях распространения технологий киборгизации [5].
Такие очевидные дисциплинарные институты, как школы, больницы и тюрьмы, к настоящему времени уже качественно трансформировались под влиянием цифровых технологий. Примеров можно привести множество. Это и использование продвинутых средств аналитики на основе ИИ для мониторинга успеваемости учащихся в различных разрезах и масштабах, и централизация ряда медицинских функций, как, например, исследование рентгеновских снимков в специальных хабах также с помощью искусственного интеллекта, и постоянный цифровой контроль и мониторинг жизни заключенных, воистину паноптикум, осуществляемый в пенитенциарных учреждениях. Активно развивается телемедицина и интеллектуальные экспертные системы, позволяющие оказывать медицинскую помощь дистанционно, а также ставить и проверять диагнозы с помощью ИИ.
Самым очевидным примером применения таких технологий в качестве инструмента биополитики стало активное использование в крупных городах мира камер с системами распознавания лиц для контроля соблюдения карантина в период пандемии COVID-19. В этом случае очевидна способность цифровых технологий служить инструментами контроля и принуждения к требуемому поведению в достаточно крупных масштабах.
Также в качестве примера реализации биополитики через использование цифровых технологий можно привести попытки регулирования деторождения в Китае, в рамках которых женщин с помощью мессенджеров мотивировали стараться забеременеть вскоре после свадьбы, а затем требовали присылать фотографии младенцев, чтобы подтвердить факт рождения [19]. Можно предположить, что если технологии имплантатов будут развиваться достаточно динамично, то подобный контроль уже в ближайшем будущем станет гораздо более изощренным.
Продолжая эту тему, рассмотрим концепцию общества контроля, которую разработал Жиль Делез. В таком обществе власть реализуется перманентно посредством цифровых сетей и систем, в отличие от дисциплинарного общества, где контроль осуществляется через отдельные институты [3].
Примером общества контроля может служить китайская система социального рейтинга, в рамках которой предполагается практически постоянный мониторинг поведения индивида по широкому спектру социальных активностей. На основании собираемых данных в динамике каждый гражданин получает свой рейтинг, в соответствии с которым оценивается его благонадежность и предоставляется соответствующий уровень социальных благ и возможностей [8].
Еще один пример того, как может развиваться общество контроля в симбиозе с технологиями киборгизации, подразумевает развитие нейроинтерфейсов, под которыми понимаются устройства, обеспечивающие прямую связь мозга с компьютером. В настоящее время компания Neuralink активно разрабатывает мозговые имплантаты, которые вполне могут получить массовое распространение уже в ближайшие годы. Независимо от того, будут ли они использоваться для медицинских целей или для расширения когнитивных возможностей, очевидна угроза того, что с помощью таких устройств станет возможно в буквальном смысле управлять мыслями и поведением индивидов.
Продолжая размышлять о том, как в обществе контроля власть может осуществляться посредством непрерывно действующих и децентрализованных сетей мониторинга и сбора данных, обратим внимание на развитие и распространение таких технологий, как умные устройства, интернет вещей и носимые технологии. Здесь важно отметить, что такой комплекс создает всеобъемлющую инфраструктуру для мониторинга и влияния. Здесь мы также можем привести примеры уже существующих общественных практик. В частности, относящиеся к организации мониторинга на рабочем месте в организациях, в рамках которого предприятия используют цифровые инструменты в целях отслеживания поведения и эффективности работы сотрудников. В частности, в компании Amazon используются браслеты, с помощью которых отслеживается перемещение сотрудников складов в складских пространствах, а Barclays использует систему, целью которой является контроль времени, проведенного за рабочим местом [6]. Более того, несмотря на критику и недовольство ряда сотрудников, Amazon продолжает использовать и развивать технологии, позволяющие отслеживать действия сотрудников. Подобные подходы бизнеса безусловно вызывают широкий резонанс в обществе по поводу прав сотрудников и этичности таких практик [1].
Упомянутая выше концепция умных городов также сама по себе является иллюстрацией перехода к обществу контроля, поскольку во многих мегаполисах уже внедрены и действуют многоуровневые сети видеокамер и датчиков для управления основными функциями городской жизни, такими как обеспечение общественной безопасности, управление дорожным движением и т.д. [12]. Безусловно, функционально такие проекты обеспечивают эффективность работы сложных систем, но вместе с этим вопрос границ контроля и допустимого вмешательства в целый ряд категорий общественной жизни, таких как, например, конфиденциальность, остается, мягко говоря, под вопросом.
Чтобы проиллюстрировать этот тезис более подробно, рассмотрим упомянутые выше технологии и их возможности в части сбора данных и потенциально для влияния на поведение индивидов. В частности, еще в 2019 году результаты исследований показали, что интерфейсы способны расшифровывать речь, непосредственно считывая активность мозга с точностью до 97%. Что касается биометрических носимых устройств, таких как умные часы и фитнес-трекеры, которые собирают и отслеживают целый ряд физиологических данных, еще в 2020 году во всем мире было продано около полумиллиарда таких изделий. Эта тенденция продолжается: в течение первых трех кварталов 2024 года в только России объем продаж носимых устройств превысил 5.5 миллионов, и эта цифра демонстрирует количественный рост 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года [4].
При этом необходимо отметить, что люди интегрируют продукты этих технологий в свое существование по своей воле и согласно собственному решению, и говорить в чистом виде о насаждаемом «сверху» и навязываемом наблюдении и контроле было бы несправедливо. Парадоксальным образом индивиды становятся активными участниками и даже инициаторами наблюдения и контроля над собой.
Такую тенденцию можно назвать «партисипативным (или партисипаторным) наблюдением», то есть таковым, которое исходит от объекта, который сам и налагает на себя контроль. И с этой точки зрения среди основных вызовов и рисков, которые возникают в связи с развитием и распространением этих технологий, необходимо особо отметить именно конфиденциальность, поскольку анонимизированные данные, как правило, могут быть с высокой степенью точности повторно идентифицированы, что полностью разбивает концепцию безопасности личной информации.
Чтобы далее более всесторонне рассмотреть проблему взаимодействия человека и технологий в контексте киборгизации и биополитики, включим в наше рассуждение концепцию технологической сингулярности и идеи акторно-сетевой теории.
Согласно Курцвейлу, технологическая сингулярность - это предполагаемый момент в будущем, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий, и в результате этого дальнейшее развитие человеческой цивилизации и даже ее перспективы станут непредсказуемыми [13]. Еще раз отметим, что это понятие гипотетическое, и многие ученые не верят в возможность создания так называемого искусственного общего интеллекта, который бы соответствовал этим требованиям. Но для нашей работы важно рассмотреть эту спекулятивную перспективу, чтобы показать киборгизацию как постепенное слияние человека и машины до определенного момента – до той же самой сингулярности, то есть до точки, когда слияние достигнет такого качества, что традиционные формы биополитического контроля потеряют эффективность или их невозможно будет применять.
Иными словами, если, например, нейроинтерфейсы станут настолько продвинутыми и смогут быть интегрированными так глубоко, что будут непосредственно оказывать влияние на процессы мышления и на принятие решений у человека, то тогда неизбежно изменится сама природа человеческой субъективности и автономии, и, безусловно, должны будут появиться гораздо более сложные механизмы биополитики, направленные на, если так можно выразиться, гибридные сознание и телесность.
Вместе с этим интересно рассмотреть человеческое, гибридное и технологическое через призму акторно-сетевой теории, которая предполагает, что комплекс политических, социальных, технологических систем представляет собой сложную сеть взаимодействующих совершенно разнообразных акторов, которые имеют равное значение независимо от своей природы, то есть, в том числе, могут быть и не человеческими [14].
И с этой точки зрения продукты технологии, представляющие киборгизацию, те же самые имплантаты и любые другие аналогичные формы должны рассматриваться не как инструменты, обладающие служебной функцией в человекоцентричном мире, но как полноправные участники всей широты социальных взаимодействий, в том числе и в процессах формирования и реализации власти. С такого ракурса достаточно широко распространенные кардиостимуляторы, обладающие функцией удаленного мониторинга, не просто передают данные, но оказывают важное влияние на целый комплекс решений, начиная от того, каким образом лечить пациента и какой образ жизни ему вести, и заканчивая управлением и планированием политики в области здравоохранения. Вместе с этим пациенты, обладающие такими устройствами, как показывают исследования, начинают воспринимать их как естественную часть своей телесности и, более того, идентичности, что тоже подтверждает мысль о том, что технологии киборгизации превращаются в участников формирования субъективности и телесности человека [15].
Представленный взгляд позволяет буквально визуализировать, как власть распределяется и циркулирует в сетях, составленных из множества разнокачественных акторов. Возвращаясь к системе социального рейтинга в Китае и рассматривая ее через призму акторно-сетевой теории, можно выделить таких акторов, как государственные учреждения, граждане, датчики, данные и алгоритмы. При этом технологические системы, составляющие неотъемлемую часть такого проекта, очевидно, являются чем-то большим, чем инструменты контроля, это действительно активные участники распределения власти и управления социальным поведением.
Ранее мы намеренно не упоминали этическую проблематику, с которой в последние годы нередко ассоциируются вопросы цифровой трансформации общественной жизни и, в частности, интеграции продуктов искусственного интеллекта в различные ее сферы. Далее мы уделим этому направлению отдельное внимание, поскольку этические аспекты улучшения человека являются очень важными в пространстве слияния тенденций киборгизации и биополитики, хотя бы в призме возможного создания «постчеловека». В рамках этого дискурса перспективными для нашей работы являются идеи Джулиана Савулеску и Ника Бострома.
Савулеску представляет оптимистичный взгляд на возможности, в частности, биотехнологий в деле морального улучшения человека и утверждает, что совершенствование не только когнитивных способностей, но и морального кодекса человека с помощью технологий не просто допустимо, но и даже желательно с этической точки зрения [17]. Конечно же, в контексте биополитики очевидна неоднозначность такой позиции, поскольку, как минимум, сложно ответить на вопрос, кто должен и может определять параметры такого морального улучшения. Вслед за этим возникает еще одна очевидная проблема в части того, как все это может (и неизбежно будет!) использоваться в качестве инструмента контроля.
Проведем мысленный эксперимент и представим себе сценарий общественного развития, при котором некий институт (будь то государство в традиционном смысле этого слова или технологическая корпорация, которая в новых условиях приобрела определенные функции управления обществом) продвигает и утверждает некие форматы нейротехнологического улучшения, которые вместе с влиянием на когнитивные способности также оказывают давление на моральные суждения и принятие решений по этическим вопросам. Конечно же, хочется предположить, что такая инициатива приведет к созданию в целом морально улучшенного общества. Но если посмотреть глубже, то возникает новый вопрос, еще более сложный – как в таких условиях обеспечить и гарантировать свободу воли и автономию личности, и ответ на него найти уже совсем сложно.
Что касается Ника Бострома, то он в ряде своих работ стремится всесторонне оценить перспективы и риски (по нашему мнению, гипотетического) постчеловека - существа, которое может возникнуть на определенном этапе развития цифровых технологий из современного человека и которое будет обладать немыслимыми и непредсказуемыми для нас возможностями и способностями [7]. Даже это строгое определение, если рассмотреть его с точки зрения биополитики, заставляет задуматься в лучшем случае о возникновении новых форм неравенства и дискриминации, и вместе с этим очевидно, что при таком сценарии неизбежно произойдут фундаментальные изменения в структурах власти и контроля. Причем, несмотря на то, что выше мы обозначили постчеловеческое состояние как гипотетическое, нужно отметить, что данную перспективу мы рассматриваем как в определенной степени вероятную, поскольку уже на сегодняшний день существуют технологии когнитивного улучшения, например, такие как транскраниальная стимуляция мозга, которые показывают и демонстрируют впечатляющие результаты, свидетельствующие о значительном повышении производительности работы мозга [16].
Все это заставляет задуматься, как подобные технологии будут использоваться в управлении и регулировании трудовой деятельности, образования, в рамках социальных взаимодействий и, конечно, в чистом виде в управлении. И здесь этическая проблематика и соответствующие дилеммы выступают очень острым углом, потому что кроме фундаментальных вопросов, касающихся природы человека, проблема равенства и справедливости приобретает новое измерение в части того, что существующее неравенство не исчезнет в свете реализации технологических инноваций, но вместе с ними возникнут и распространятся новые негативные составляющие. Чтобы определить их контур, отметим основные вопросы, относящиеся к этой проблематике. Это целый круг тем, касающихся границ допустимого вмешательства каких бы то ни было управленческих или властных структур в биологию человека как в целом, так и в отношении определенных групп, например, преступников или, наоборот, служащих, занимающих ответственные позиции и принимающих важные решения.
Рассматривая в выше представленном комплексе то, как тенденции киборгизации оказывают влияние на биополитику, и прогнозируя возможные трансформации жизни в результате появления новых инструментов и систем, неизбежно задумываешься о том, что в противовес им должны появиться новые формы сопротивления. Поэтому далее мы рассмотрим существующие и потенциальные стратегии и практики, которые могут быть направлены на противодействие тотальному технологическому контролю и которые руководствуются принципами сохранения человеческой автономии. Здесь, конечно же, основное значение имеют этические и социальные аспекты, и по большей части именно через эту призму мы рассмотрим некоторые философские концепции и практические подходы, относящиеся к стратегиям защиты от киборгизации и биополитического контроля.
В первую очередь отметим существующие концепцию хактивизма и движения за цифровые права, которые представляются важными формами борьбы с растущим влиянием технологических систем на практики биополитического контроля.
Хактивизм представляет собой форму цифрового или, лучше сказать, гибридного сопротивления на стыке технологической деятельности и социально-политического и общественного активизма. Идеология хактивизма основана на борьбе против тотального цифрового надзора и на защите личной свободы в условиях интеграции все более совершенных технологических инструментов в общественную жизнь [11].
Что касается технологической составляющей такого рода активизма, то она включает разработку и распространение цифровых продуктов, основанных на технологиях шифрования и автономизации, позволяющих пользователям сохранять анонимность в интернете и минимизировать цифровые следы. К таким проектам в какой-то мере относятся и криптовалюты, одной из целей создания которых было формирование возможностей осуществлять финансовые транзакции вне рамок централизованного контроля. В какой-то степени это олицетворяет не только практический инструмент защиты приватности, но и саму идею технологического сопротивления централизованному контролю.
Еще одним важным направлением хактивизма в части контроля тенденций киборгизации и борьбы с биополитическим контролем является создание альтернативных (альтернативность в данном случае определяется именно децентрализованным характером) социальных сетей и платформ, которые разрабатываются, базируясь в первую очередь на принципах защиты пользовательских данных и в чьей бизнес-модели заложен отказ от монетизации этой информации. Отличие этих продуктов от господствующих моделей цифровых платформ заключается в том, что типичная модель предполагает именно коммерциализацию персональных данных, собираемых, хранящихся, анализируемых, и впоследствии используемых. В этом смысле децентрализованные социальные сети несут новый идеологический посыл, внося вклад в формирование таких новых принципов цифрового сообщества, как автономия и самоуправление.
Кроме этого, хактивисты продвигают идею и даже практики обратной инженерии в отношении технологий, относящихся к киборгизации, в целях ограничения внешнего контроля и возможности воздействия на носимые и даже имплантированные устройства. В этой части активисты взламывают закрытые системы, чтобы сделать их работу прозрачной и полностью подконтрольной для самих пользователей. В легальном поле это означает борьбу за утверждение программного обеспечения с открытым кодом для медицинских имплантатов, а также создание и распространение альтернативных прошивок для носимых устройств, не привязанных к производителю, который обычно обязывает использовать собственные продукты при использовании устройств. Сюда же относятся создание и разработка инструментов для обнаружения и блокировки доступа к персональным данным, например, программы, блокирующие скрытые трекеры в приложениях.
Как отмечено выше, деятельность активистов в этой сфере осуществляется не только в рамках технологических разработок. Сюда же относятся образовательная и просветительская работа, направленная на повышение цифровой грамотности, а также развитие общественной дискуссии по проблемам рисков и этических вопросов, связанных с технологической трансформацией человеческой природы.
При этом, несмотря на то что хактивисты часто выступают в роли цифровых просветителей, их деятельность нередко переходит границы правовых и тех же самых этических норм. Поскольку цифровая сфера развивается настолько стремительно, что может называться самым настоящим фронтиром, правовая составляющая этой деятельности не успевает за инновациями, и по факту грань между, если можно так выразиться, законным цифровым активизмом и противоправной хакерской деятельностью является часто нечеткой и размытой. Это ставит активистов перед этическими дилеммами, которые в свою очередь не всегда просто разрешить, поскольку этическая и морально-нравственная составляющая всех этих процессов в настоящее время заплетена в сложный узел. Чтобы еще раз доказать сложность данной проблематики, отметим, что на практике те же самые технологии, разрабатываемые для защиты приватности и автономии, нередко используются преступниками для противоправной деятельности, что, в свою очередь, нередко выставляет хактивистов в общественном поле в качестве, в лучшем случае, безответственных радикалов и маргиналов.
Чтобы показать «светлую» сторону подобных инициатив, осуществляемых на стыке социального ориентированного бизнеса, общественной деятельности и просветительской инициативе, приведем несколько примеров. В первую очередь, можно отметить такой проект как компанию DuckDuckGo, миссией которой является, как указывается в ее документах, защита приватности индивидов в цифровом пространстве, и компания занимается разработкой и реализацией комплексного подхода к обеспечению конфиденциальности в интернете [9].
Продуктовая линейка DuckDuckGo включает защищенный браузер и поисковую систему, в которых не фиксируется история посещений; инструменты блокировки трекеров и защиту от сохранения цифровых отпечатков и куки-файлов, а также от отслеживания со стороны крупных платформ. Кроме этого, обеспечивается удаление трекеров в почтовых сообщениях и блокировка таргетированной рекламы.
Подходы, реализуемые в данном проекте, можно оценить как своего рода легальную форму сопротивления тенденциям, знаменующим исчезновение приватности в мире, который все более оцифровывается, и где личные данные превращаются в ресурс не только коммерциализации, но и воздействия и контроля индивидов.
При этом DuckDuckGo является коммерческой организацией и получает доход от размещения рекламы. Однако, в отличие от традиционных технологических компаний, содержание объявлений, демонстрирующихся на страницах результатов поиска, основывается на запросах, а не на профилях пользователей. Еще одним средством монетизации проекта является платная подписка на различные сервисы компании, которые помогают защищать конфиденциальность личной информации.
Кроме того, усиливающемуся в условиях киборгизации биополитическому контролю противодействуют и противостоят непосредственно общественные движения. В частности, такие проекты, как Electronic Frontier Foundation и AccessNow, занимаются созданием правовых инициатив в части защиты приватности и борьбы с цифровым надзором, образовательной и просветительской деятельностью в части повышения осведомленности общества в описываемых нами вопросах. Нужно отметить, что подобная активность не является утопической деятельностью, и принятие Общего регламента по защите данных (GDPR) в ЕС во многом обязано деятельности таких активистов за цифровые права [10].
Итак, мы показали, что существующие формы сопротивления комплексу биополитического контроля и киборгизации невозможно свести к какой-либо единой сфере деятельности. Это многогранное, комплексное явление в общественной жизни, включающее философские, культурно-социальные и технологические измерения.
Кроме этого, пространством критического осмысления и нередко сопротивления угрозам, возникающим в результате бесконтрольного развития технологий, становится массовая культура. В последние годы было снято несколько фильмов, в которых исследуются потенциальные последствия избыточного влияния технологий на природу человека и общественную жизнь.
В частности, в 2023 году на экраны вышла картина «T.I.M.», название которого можно перевести на русский язык не только как имя Тим, но и расшифровав эту аббревиатуру как «высокотехнологичный слуга» или «дворецкий», или даже «управляющий». По сюжету, робот, созданный для обеспечения комфортной жизни человека, парадоксальным образом начинает угнетать и подчинять себе главную героиню и убивает ее мужа.
Можно определить несколько важных проблем, поднятых в фильме. Во-первых, это соотношение человека и машины с точки зрения их баланса сил, и, во-вторых, это беспокойство по поводу существующих рисков для человека от технологий, которые должным образом не регулируются и не контролируются. Также дополнительно можно отметить и этическую проблематику, связанную с вопросом, допустимо ли позволять машинам принимать самостоятельные решения. И не в последнюю очередь нужно отметить, что в фильме затрагивается и социальная тема. Могущественная технологическая корпорация, в которой работает главная героиня, буквально заставляет ее принять в свой дом робота, таким образом оказывая влияние на семью, супружеские отношения и в целом на традиционные социальные связи и институты.
То, что в последние годы было снято сразу несколько высокобюджетных фильмов (автор нередко обращается к кинематографу для иллюстрации научных идей, см. другие публикации автора), с разных сторон освещающих данную или близкую проблематику, доказывает факт, что массовая культура реагирует на актуальные вызовы и призывает к осмыслению происходящих процессов и поиску баланса в части прогресса и сохранения человеческой свободы и автономии.
Отдельно выделим еще одну важную проблему - перспективу эрозии социальных структур в киборгизированном мире. Полин Браун в книге «Эстетический интеллект», посвященной тому, что в мире, пресыщенном технологиями и товарами, именно эстетическая составляющая становится одной из ключевых ценностей, и фокус на ней является одним из главных стратегических преимуществ, предсказывает сценарии общественного развития в контексте происходящего развития цифровых технологий, интеграции их продуктов в общественную жизнь, в частности, в экономику и в коммуникации [2].
По ее мнению, одной из ведущих тенденций является так называемая «трайбализация», то есть разделение общества на узкие сегменты по религиозному, национальному, идеологическому принципу, а также в рамках жизненных интересов и эстетических вкусов. Мы склонны согласиться с вероятностью наступления такой перспективы, и в подтверждение этого мнения отметим, что уже сегодня наблюдаем появление новых субкультур, которые в контексте нашего исследования характеризуются тем, что противостоят или намеренно ограничивают использование технологий, относящихся к киборгизации. Таких сообществ достаточно много, и их идеология основана на разных основаниях, например, на идеях сохранения естественности человеческой природы через так называемый цифровой детокс и технологический минимализм, то есть через ограничение использования цифровых технологий в повседневной жизни. Другие субкультуры фокусируются на идее защиты неприкосновенности частной жизни в цифровую эпоху и продвигают собственные инструменты ее обеспечения, выбирая для себя соответственно особенный, в какой-то степени изолированный образ жизни.
Мы упомянули эти примеры не столько в качестве альтернативных сценариев и моделей жизни в киборгизируемом обществе, но в качестве ответа и даже конкретных инструментов сопротивления цифровому надзору, направленных также и на сохранение пространства для традиционного аналогового человеческого опыта в мире [19].
Конечно же, философские дискуссии, художественное творчество, общественные движения не развиваются изолированно друг от друга, а взаимосвязаны, ведут между собой диалог и вдохновляют развитие рефлексии в рамках данной проблематики, что способствует формированию рефлексивного отношения к технологиям в целом и киборгизации в частности, в том числе и в контексте биополитического контроля. Такая синергия играет свою собственную роль в общественной жизни, а также способствует формированию базы для создания правовых рамок для контроля киборгианских технологий, в том числе, и в части их использования в биополитических практиках.
Подводя итог нашему исследованию, подчеркнем, что мы сделали попытку продемонстрировать, что биополитика связана со стратегиями киборгизации общественной жизни и человеческой природы, и возможные сценарии развития этих направлений требуют вдумчивого осмысления. Интеграция цифровых технологий в человеческое сознание и телесность, а также в управление и экономику оказывает непосредственное влияние не только на то, как мы воспринимаем и определяем человеческую природу, но и на практические аспекты власти и контроля в обществе.
Анализ киборгизации с использованием концепций Фуко и Делеза позволил прийти к выводу, что в условиях размывания границы между человеком и технологиями власть и контроль приобретают тонкие и практически безграничные инструменты надзора и контроля. При этом складывающаяся ситуация представляется парадоксальной, поскольку индивиды во многом сами становятся участниками и инициаторами наблюдения за собой, интегрируя используемые для этого технологические устройства в свою жизнь.
При этом мы далеки от алармистских или апокалиптических оценок происходящих изменений, поскольку видим, что, как и всегда в истории, определенные тенденции и стратегии вызывают в обществе соответствующее сопротивление. В текущих условиях оно принимает разнообразные формы: от общественных движений и альтернативных бизнес-моделей в бизнесе до художественного осмысления в массовой культуре. Это наблюдение позволяет утверждать, что в целом общество стремится к рефлексии в отношении данной проблематики и принимает участие в формировании будущего, которое отвечало бы интересам человека.
В заключение отметим, что проведенное исследование заставляет рассматривать киборгизацию не только, как мы указали в начале статьи, в качестве происходящего слияния человеческого и технологического, но вместе с этим и как качественную трансформацию социальных и культурных категорий. Мы считаем перспективными дальнейшие исследования киборгизации и биополитики в комплексе, в рамках междисциплинарного анализа, с фокусом на изучение потенциальных социальных и психологических последствий все большего технологического вмешательства в человеческое сознание и тело, возможное изменение механизмов социального взаимодействия и выстраивания и поддержки социальных связей. И, конечно же, не менее актуальным представляется осмысление возможных сценариев эволюции в целом «человеческого» в условиях цифровой эпохи.
Список литературы:
- Большой брат не дремлет: как Amazon усиливает контроль за сотрудниками. – Доступно: https://trends.rbc.ru/trends/industry/617a56829a79475f60332969?ysclid=m2kgyi5njd165080527. – Проверено: 16.10.2024.
- Браун П. Эстетический интеллект : как его развивать и использовать в бизнесе и жизни. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2024. – 320 стр.
- Делез Ж. Общество контроля. - Элементы. - 2000. - №9. - С. 67-71.
- Российский рынок умных носимых устройств показал уверенный рост в 2024 году. – Доступно: https://www.ixbt.com/live/market/rossiyskiy-rynok-umnyh-nosimyh-ustroystv-pokazal-uverennyy-rost-v-2024-godu.html?ysclid=m2kfkr87da129603016. – Проверено: 16.10.2024.
- Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году. - СПб.: Наука, 2010. - 448 стр.
- Ajunwa, I., Crawford, K., & Schultz, J. (2017). Limitless worker surveillance. California Law Review, 105(3), 735-776.
- Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press.
- Chen, Y., & Cheung, A. S. (2017). The transparent self under big data profiling: Privacy and Chinese legislation on the social credit system. The Journal of Comparative Law, 12(2), 356-378.
- DuckDuckGo. Your personal data is nobody's business. – Доступно: https://duckduckgo.com/about. – Проверено: 16.10.2024.
- Greenleaf, G. (2021). Global Data Privacy Laws 2021: Despite COVID Delays, 145 Laws Show GDPR Dominance. Privacy Laws & Business International Report, 169, 1-5.
- Jordan, T., & Taylor, P. A. (2004). Hacktivism and Cyberwars: Rebels with a Cause? Routledge.
- Kitchin, R. (2014). The real-time city? Big data and smart urbanism. GeoJournal, 79(1), 1-14.
- Kurzweil, R. (2005). The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. Viking.
- Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press
- Oudshoorn, N. (2020). Resilient Cyborgs: Living and Dying with Pacemakers and Defibrillators. Springer.
- Santarnecchi, E., et al. (2020). Enhancing cognition using transcranial electrical stimulation. Nature Reviews Neuroscience, 21(5), 261-278.
- Savulescu, J., & Persson, I. (2012). Unfit for the Future: The Need for Moral Enhancement. Oxford University Press.
- Vivian Wang. So, Are You Pregnant Yet? China’s In-Your-Face Push for More Babies. Доступно: https://www.nytimes.com/2024/10/08/world/asia/china-women-children-abortions.html – Проверено: 16.10.2024.
- Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. Profile Books.


