Спорт как зрелище в постковидной реальности
Алексеева Екатерина Алексеевна,
Государственный академический университет гуманитарных наук, г. Москва, Российская Федерация
Гуров Олег Николаевич,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Государственный академический университет гуманитарных наук, г. Москва, Российская Федерация
«Горизонты гуманитарного знания», №2. 2024 г.
Государственный академический университет гуманитарных наук, г. Москва, Российская Федерация
Гуров Олег Николаевич,
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Государственный академический университет гуманитарных наук, г. Москва, Российская Федерация
«Горизонты гуманитарного знания», №2. 2024 г.
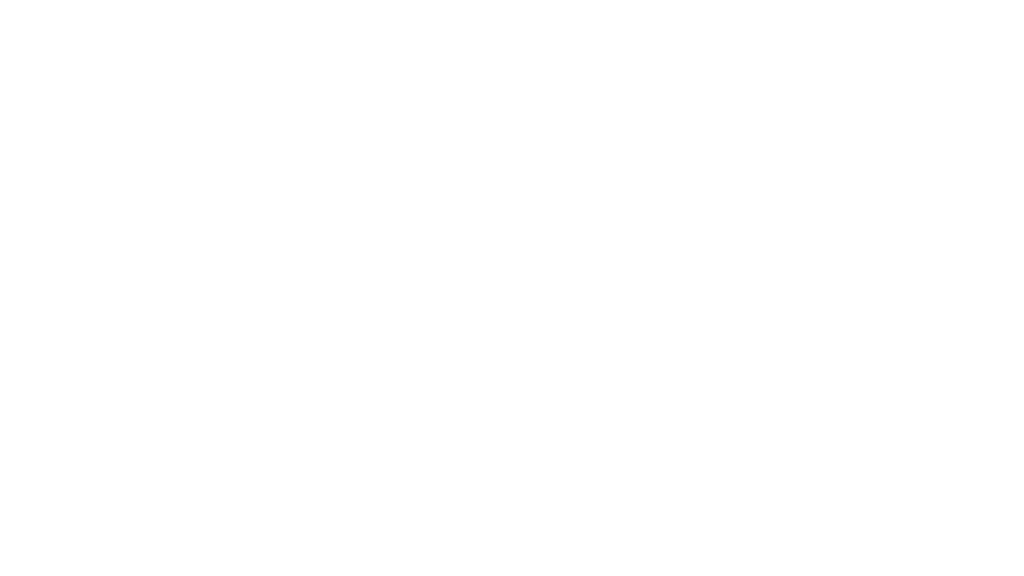
При цитировании просьба использовать ссылку:
Алексеева Е. А., Гуров О. Н.: «Спорт как зрелище в постковидной реальности» [Электронный ресурс] // Горизонты гуманитарного знания [S.l.]. № 2, дек 2024. ISSN 2587-845X. Доступно на:
https://journals.mosgu.ru/ggz/article/view/1985 Дата доступа: 13 фев. 2025.
DOI: http://dx.doi.org/10.17805/ggz.2024.2.3
Алексеева Е. А., Гуров О. Н.: «Спорт как зрелище в постковидной реальности» [Электронный ресурс] // Горизонты гуманитарного знания [S.l.]. № 2, дек 2024. ISSN 2587-845X. Доступно на:
https://journals.mosgu.ru/ggz/article/view/1985 Дата доступа: 13 фев. 2025.
DOI: http://dx.doi.org/10.17805/ggz.2024.2.3
Аннотация.
Данное исследование посвящено эволюции спорта в современную эпоху, в период уже сложившейся постковидной реальности. В настоящее время происходит качественная трансформация спорта, изменение всей его многогранной природы во взаимосвязи и во взаимодействии с такими сферами, как технологии, экономика, культура и наука.
В работе исследуется то значимое влияние, которое было оказано коронавирусной пандемией на спортивную индустрию. Ограничения, обусловленные необходимостью бороться с инфекцией, послужили катализатором ускоренного перехода спортивной деятельности к гибридным и виртуальным форматам, и в результате спорт в целом как категория общественной деятельности оказался подверженным глубоким инновационным преобразованиям. В рамках осмысления этих явлений авторы приводят концепцию мета-паразитизма с целью проанализировать, в частности, различные аспекты виртуализации спортивных зрелищ.
В качестве конкретного примера также приводится формирующийся и активно развивающийся в современном спорте тренд «фиджитал» (physical+digital). Кроме того, в исследовании применяется концепт киборга для демонстрации того, как технологические достижения делают актуальной тему человеко-машинного взаимодействия конкретно в сфере спорта. Представляемый комплексный анализ позволяет приблизиться к пониманию культурно-философских и общественных аспектов спорта в условиях быстро меняющегося мира и обосновать актуальность дальнейшего исследования перспектив интеграции технологических продуктов в спортивную деятельность, а также развивающегося слияния человека и машины в рамках киборгизации, что в будущем сможет еще более радикально изменить как саму концепцию спорта, так и определение понятия «спортсмен».
Ключевые слова: спорт; пандемия COVID-19; виртуализация; метапаразитизм; фиджитал; киборгизация; цифровая трансформация.
Данное исследование посвящено эволюции спорта в современную эпоху, в период уже сложившейся постковидной реальности. В настоящее время происходит качественная трансформация спорта, изменение всей его многогранной природы во взаимосвязи и во взаимодействии с такими сферами, как технологии, экономика, культура и наука.
В работе исследуется то значимое влияние, которое было оказано коронавирусной пандемией на спортивную индустрию. Ограничения, обусловленные необходимостью бороться с инфекцией, послужили катализатором ускоренного перехода спортивной деятельности к гибридным и виртуальным форматам, и в результате спорт в целом как категория общественной деятельности оказался подверженным глубоким инновационным преобразованиям. В рамках осмысления этих явлений авторы приводят концепцию мета-паразитизма с целью проанализировать, в частности, различные аспекты виртуализации спортивных зрелищ.
В качестве конкретного примера также приводится формирующийся и активно развивающийся в современном спорте тренд «фиджитал» (physical+digital). Кроме того, в исследовании применяется концепт киборга для демонстрации того, как технологические достижения делают актуальной тему человеко-машинного взаимодействия конкретно в сфере спорта. Представляемый комплексный анализ позволяет приблизиться к пониманию культурно-философских и общественных аспектов спорта в условиях быстро меняющегося мира и обосновать актуальность дальнейшего исследования перспектив интеграции технологических продуктов в спортивную деятельность, а также развивающегося слияния человека и машины в рамках киборгизации, что в будущем сможет еще более радикально изменить как саму концепцию спорта, так и определение понятия «спортсмен».
Ключевые слова: спорт; пандемия COVID-19; виртуализация; метапаразитизм; фиджитал; киборгизация; цифровая трансформация.
Введение
Спорт — сложная и многогранная область общественной жизни, где переплетаются физическое совершенство, состязательность, этические соображения, политические и экономические интересы, культурные паттерны. Взаимосвязь этих разнородных аспектов выявляется и усложняется под воздействием цифровых технологий, включая, в частности, виртуальную реальность, сенсорные устройства и аналитику данных. Технологии влияют и на саму спортивную деятельность, а также на восприятие спортивных мероприятий зрителями и болельщиками. Можно сказать, что спортивная деятельность медиатизируется под воздействием цифровых технологий, а пандемия COVID-19 для спортивной индустрии послужила катализатором стремительного перехода к новым форматам и в целом внедрения инноваций в связи с необходимостью оперативно решать проблемы, возникшие в условиях мероприятий по борьбе с коронакризисом.
В контексте данной статьи мы будем рассматривать спорт как комплексное явление, включающее различные аспекты — физическую активность, соревновательность, здоровье, научную, экономическую и морально-этическую составляющие. Политические и относящиеся к сфере международных отношений аспекты спорта в рамках настоящей работы исследованы не будут, поскольку являются темой, требующей отдельного изучения. В. И. Столяров подчеркивает актуальность анализа социального значения спорта. При этом, отмечая культурологические проблемы, обусловленные попыткой определить место спорта в системе ценностей, философ обращает внимание на разнообразие мнений относительно культурной ценности спорта в условиях широкого спектра интерпретаций этого явления (Столяров, 2005). Вместе с этим сама данная проблематика доказывает истинность масштаба спорта, являющегося действительно важным элементом общественной жизни. Говоря о таком аспекте, как зрелищность, важно отметить, что спорт как форма художественного зрелища является и социокультурным феноменом (Колесова, 2022). С учетом развития и распространения благодаря ИКТ новых социальных медиа важно обратить внимание и на визуализацию спортивных мероприятий как на ключевой элемент зрелищности, потому что с определенного времени спорт в рамках вышеприведенных аспектов стал неотъемлемой частью общественной жизни, значимой силой и, можно сказать, отдельной категорией культуры.
В работе исследуется трансформация спорта в постковидной реальности в условиях цифровой медиатизации всех сторон общественной жизни. В качестве теоретического бэкграунда используется концепция медиатизации, кото-рая, как предполагается, меняет саму сущность спорта. Также демонстрируется, каким образом коронавирусная пандемия повлияла на индустрию спорта с фокусом на переход к гибридным и виртуальным форматам и перспективы киборгизации. Рассматриваются риски медиатизирующего воздействия кибер-технологий на спортивную деятельность. На этом фоне авторы демонстрируют, каким образом концепция метапаразитизма может применяться для ана-лиза медиатизированных форм спортивного зрелища.
Спорт — сложная и многогранная область общественной жизни, где переплетаются физическое совершенство, состязательность, этические соображения, политические и экономические интересы, культурные паттерны. Взаимосвязь этих разнородных аспектов выявляется и усложняется под воздействием цифровых технологий, включая, в частности, виртуальную реальность, сенсорные устройства и аналитику данных. Технологии влияют и на саму спортивную деятельность, а также на восприятие спортивных мероприятий зрителями и болельщиками. Можно сказать, что спортивная деятельность медиатизируется под воздействием цифровых технологий, а пандемия COVID-19 для спортивной индустрии послужила катализатором стремительного перехода к новым форматам и в целом внедрения инноваций в связи с необходимостью оперативно решать проблемы, возникшие в условиях мероприятий по борьбе с коронакризисом.
В контексте данной статьи мы будем рассматривать спорт как комплексное явление, включающее различные аспекты — физическую активность, соревновательность, здоровье, научную, экономическую и морально-этическую составляющие. Политические и относящиеся к сфере международных отношений аспекты спорта в рамках настоящей работы исследованы не будут, поскольку являются темой, требующей отдельного изучения. В. И. Столяров подчеркивает актуальность анализа социального значения спорта. При этом, отмечая культурологические проблемы, обусловленные попыткой определить место спорта в системе ценностей, философ обращает внимание на разнообразие мнений относительно культурной ценности спорта в условиях широкого спектра интерпретаций этого явления (Столяров, 2005). Вместе с этим сама данная проблематика доказывает истинность масштаба спорта, являющегося действительно важным элементом общественной жизни. Говоря о таком аспекте, как зрелищность, важно отметить, что спорт как форма художественного зрелища является и социокультурным феноменом (Колесова, 2022). С учетом развития и распространения благодаря ИКТ новых социальных медиа важно обратить внимание и на визуализацию спортивных мероприятий как на ключевой элемент зрелищности, потому что с определенного времени спорт в рамках вышеприведенных аспектов стал неотъемлемой частью общественной жизни, значимой силой и, можно сказать, отдельной категорией культуры.
В работе исследуется трансформация спорта в постковидной реальности в условиях цифровой медиатизации всех сторон общественной жизни. В качестве теоретического бэкграунда используется концепция медиатизации, кото-рая, как предполагается, меняет саму сущность спорта. Также демонстрируется, каким образом коронавирусная пандемия повлияла на индустрию спорта с фокусом на переход к гибридным и виртуальным форматам и перспективы киборгизации. Рассматриваются риски медиатизирующего воздействия кибер-технологий на спортивную деятельность. На этом фоне авторы демонстрируют, каким образом концепция метапаразитизма может применяться для ана-лиза медиатизированных форм спортивного зрелища.
Медиатизация и медикализация телесности в контексте пандемии как основа трансформации спорта.
Одно из определений понятия «медиатизация» было сформулировано С. Хьярвардом и звучит оно следующим образом: «Медиатизация обозначает процессы, посредством которых основные элементы культурной или социальной деятельности (например, политика, религия, язык) принимают медийную форму. Как следствие, деятельность в большей или меньшей степени осуществляется посредством взаимодействия со средой, символическое содержание и структура социальной и культурной деятельности находятся под влиянием медийной среды, от которой они постепенно становятся все более зависимыми (Hjarvard, 2007: 3, цит. по: Couldry, 2008: 376; здесь и далее пер. наш. — Е. А., О. Г.; см. также: Thompson, 1995; Hjarvard, 2012). Медиатизация как неотъемлемый компонент современности рассматривается в работах Ф. Кротца, он указывает на то, что медиатизация — это «метапроцесс, который лежит в основе изменения коммуникации как основной практики, с помощью которой люди конструируют социальный и культурный мир» (Krotz, 2009: 25; курсив источника. — Е. А., О. Г.). Но наибольшее теоретическое значение в контексте данного исследования имеет идея глубокой медиатизации, представленная в работах А. Хеппа и Н. Коулдри. Исследователи пишут о том, что глубокая медиатизация укоренена в человеческих практиках до такой степени, что в повседневном опыте вообще выпадает из поля зрения рефлексии. В книге Коулдри и Хеппа «Опосредованное конструирование реальности» утверждается, что медиатизация — это не просто некоторый компонент социальной реальности, но фактически ее фундамент. Актуальное состояние медиатизации связано прежде всего с цифровизацией различных сфер человеческой деятельности (Couldry, Hepp, 2017).
Что такое телесность и каковы ее границы, позволяющие включать в со-став телесности медиатизирующие компоненты? Под телесностью обычно подразумевается такой компонент опыта, который связан с различными аспектами функционирования тела, с ощущением себя живым существом, действующим в пространстве и соприкасающимся посредством органов чувств с различными объектами. Фактически телесность — это базис нашей агентности, ключевой способ утверждения себя в мире, демонстрирующий наше в нем присутствие. Э. Гуссерль, рассматривая место телесного опыта в системе мировосприятия, отмечает: «Вспомним и о том, что лишь благодаря опытному постижению скрепленности сознания и плотского тела в одно естественное, эмпирически-зримое единство возможно нечто подобное взаимоуразумению между принадлежащими к одному миру животными существами и что лишь благодаря этому каждый познающий субъект обретает мир в его полноте, включающий его и все иные субъекты, и в то же время может познавать его как один и тот же, принадлежащий совместно ему и всем другим существам окрестный мир» (Гуссерль, 2009: 168–169). М. Мерло-Понти трансформирует феноменологический проект Гуссерля, заостряя внимание на самоактивности тела, преодолевая жесткое разграничение физиологического и психологического, опыта тела и опыта сознания: «Живое тело, условия его существования не могли избежать определений, каковые только и делали объект объектом, без которых ему вообще не было места в системе опыта» (Мерло-Понти, 1999: 87). Ж.-Л. Нанси указывает, что «тело является выставкой субъекта. Субъект не может не быть выставленным, то есть раскрытым на — и раскрытым посредством — внешнего или другого — “своего”, как полагают возможным говорить, или же “другого”, как также считают возможным говорить. Но идет ли оно от того же субъекта или же от другого, это все то же внешнее, которое открывает внутреннее — или все то же внутреннее, понятое как интимная сокровенность, а то и как interior intimo meo, которое раскрывает себя» (Нанси, 2006: 124; курсив источника. — Е. А., О. Г.). Эта идея Нанси открывает возможность для онтологического обоснования медиатизации телесности, поскольку раскрывает медиатизированную коммуникативность самого тела («выставленность» субъекта через тело).
Телесность связана с двумя аспектами опыта тела, определяющими его активность и границы — с образом тела и схемой тела. Образ тела, согласно Ш. Галлахеру, формируется как совокупность интенциональных состояний — «восприятий, убеждений и отношений, для которых интенциональным объектом выступает собственное тело» (Gallagher, 2005: 25). Схема тела в отличие от образа тела не осознается, она позволяет действовать, ощущая габариты и пространственное положение образа тела. Несмотря на то, что границу между схемой и образом тела можно полагать как границу между осознаваемым / неосознаваемым, Галлахер подчеркивает, что непроходимого водораздела между ними нет. Можно предположить, что образ тела влияет так же на бессознательную схему тела, например, визуальные габариты тела интериоризируются таким образом, что влияют на бессознательное ощущение собственной позиции в пространстве. Таким образом «моторное действие не является полностью автоматическим: это зависящий от воли, интенциональный акт» (ibid.: 26). Получается, что образ тела, формирующийся в том числе за счет системы репрезентаций, является одним из условий как телесного действия, так и, если развивать подход Галлахера, действия когнитивного и социального.
Телесность изначально многообразна и реконфигуративна, она является сложным компонентом, включающимся в систему сетевых взаимосвязей вещей и знаков. Когда речь идет о репрезентации телесности, ее не стоит понимать как отражение или конституирующее отображение телесности. Скорее, речь идет о вплетении опыта тела в сложные взаимосвязи между символическими структурами и материальными объектами. Таким образом, мы можем предположить, что телесность проявляет свою агентность в символических и искусственных системах киберкультуры двумя основными способами: через встраивание в символический порядок и через включение в систему объектов, в которой происходит преодоление дихотомии между естественным и искусственным (техническим). С этой точки зрения, медиатизация возможна не только для ментальных процессов: убеждений, верований, представлений, но и для различных аспектов телесного опыта.
Можно выделить две формы медиатизации телесности, которые связаны с образом тела и схемой тела. Первая из этих форм — репрезентация телесности, которая связана с образом тела. Репрезентация телесности предполагает создание такой совокупности визуальных образов тела, которые интегрируются в систему самовосприятия собственного телесного образа. Именно эта форма создает представления о том, какими форматами, нормами, критериями должно обладать тело. Вторая — киборгизация телесности, связанная с перестройкой схемы тела. Киборгизация не обязательно предполагает инвазивное объединение тела и кибертехнологий. Она может формироваться как включение обязательных технологических компонентов в опыт существования тела. К числу таких технологий относятся, например, технологии селф-трекинга с помощью носимых гаджетов (смарт-часов и т. п.).
Пандемия COVID-19 эксплицировала опыт медиатизированной телесности, сделав его постоянным компонентом повседневности для максимального количества индивидов. При этом были задействованы оба компонента медиатизации: с одной стороны, опыт и функционирование отдельного тела проходили через фреймы заданного медиатизированным медицинским дискурсом представления о норме / патологии. С другой — селф-трекинг стал одной из обязательных составляющих биополитического контроля. Фактически видимость субъекта для различных структур, от которых зависели способы его существования, а иногда и сама возможность биологического выживания, зависела от степени его включенности в систему киборгизирующего мониторинга.
Медиатизированные практики, сложившиеся в ходе пандемии COVID-19, существенно изменили различные стороны общественной жизни. К числу форм человеческой деятельности, которые подверглись существенной трансформации, относится в том числе и спорт.
Одно из определений понятия «медиатизация» было сформулировано С. Хьярвардом и звучит оно следующим образом: «Медиатизация обозначает процессы, посредством которых основные элементы культурной или социальной деятельности (например, политика, религия, язык) принимают медийную форму. Как следствие, деятельность в большей или меньшей степени осуществляется посредством взаимодействия со средой, символическое содержание и структура социальной и культурной деятельности находятся под влиянием медийной среды, от которой они постепенно становятся все более зависимыми (Hjarvard, 2007: 3, цит. по: Couldry, 2008: 376; здесь и далее пер. наш. — Е. А., О. Г.; см. также: Thompson, 1995; Hjarvard, 2012). Медиатизация как неотъемлемый компонент современности рассматривается в работах Ф. Кротца, он указывает на то, что медиатизация — это «метапроцесс, который лежит в основе изменения коммуникации как основной практики, с помощью которой люди конструируют социальный и культурный мир» (Krotz, 2009: 25; курсив источника. — Е. А., О. Г.). Но наибольшее теоретическое значение в контексте данного исследования имеет идея глубокой медиатизации, представленная в работах А. Хеппа и Н. Коулдри. Исследователи пишут о том, что глубокая медиатизация укоренена в человеческих практиках до такой степени, что в повседневном опыте вообще выпадает из поля зрения рефлексии. В книге Коулдри и Хеппа «Опосредованное конструирование реальности» утверждается, что медиатизация — это не просто некоторый компонент социальной реальности, но фактически ее фундамент. Актуальное состояние медиатизации связано прежде всего с цифровизацией различных сфер человеческой деятельности (Couldry, Hepp, 2017).
Что такое телесность и каковы ее границы, позволяющие включать в со-став телесности медиатизирующие компоненты? Под телесностью обычно подразумевается такой компонент опыта, который связан с различными аспектами функционирования тела, с ощущением себя живым существом, действующим в пространстве и соприкасающимся посредством органов чувств с различными объектами. Фактически телесность — это базис нашей агентности, ключевой способ утверждения себя в мире, демонстрирующий наше в нем присутствие. Э. Гуссерль, рассматривая место телесного опыта в системе мировосприятия, отмечает: «Вспомним и о том, что лишь благодаря опытному постижению скрепленности сознания и плотского тела в одно естественное, эмпирически-зримое единство возможно нечто подобное взаимоуразумению между принадлежащими к одному миру животными существами и что лишь благодаря этому каждый познающий субъект обретает мир в его полноте, включающий его и все иные субъекты, и в то же время может познавать его как один и тот же, принадлежащий совместно ему и всем другим существам окрестный мир» (Гуссерль, 2009: 168–169). М. Мерло-Понти трансформирует феноменологический проект Гуссерля, заостряя внимание на самоактивности тела, преодолевая жесткое разграничение физиологического и психологического, опыта тела и опыта сознания: «Живое тело, условия его существования не могли избежать определений, каковые только и делали объект объектом, без которых ему вообще не было места в системе опыта» (Мерло-Понти, 1999: 87). Ж.-Л. Нанси указывает, что «тело является выставкой субъекта. Субъект не может не быть выставленным, то есть раскрытым на — и раскрытым посредством — внешнего или другого — “своего”, как полагают возможным говорить, или же “другого”, как также считают возможным говорить. Но идет ли оно от того же субъекта или же от другого, это все то же внешнее, которое открывает внутреннее — или все то же внутреннее, понятое как интимная сокровенность, а то и как interior intimo meo, которое раскрывает себя» (Нанси, 2006: 124; курсив источника. — Е. А., О. Г.). Эта идея Нанси открывает возможность для онтологического обоснования медиатизации телесности, поскольку раскрывает медиатизированную коммуникативность самого тела («выставленность» субъекта через тело).
Телесность связана с двумя аспектами опыта тела, определяющими его активность и границы — с образом тела и схемой тела. Образ тела, согласно Ш. Галлахеру, формируется как совокупность интенциональных состояний — «восприятий, убеждений и отношений, для которых интенциональным объектом выступает собственное тело» (Gallagher, 2005: 25). Схема тела в отличие от образа тела не осознается, она позволяет действовать, ощущая габариты и пространственное положение образа тела. Несмотря на то, что границу между схемой и образом тела можно полагать как границу между осознаваемым / неосознаваемым, Галлахер подчеркивает, что непроходимого водораздела между ними нет. Можно предположить, что образ тела влияет так же на бессознательную схему тела, например, визуальные габариты тела интериоризируются таким образом, что влияют на бессознательное ощущение собственной позиции в пространстве. Таким образом «моторное действие не является полностью автоматическим: это зависящий от воли, интенциональный акт» (ibid.: 26). Получается, что образ тела, формирующийся в том числе за счет системы репрезентаций, является одним из условий как телесного действия, так и, если развивать подход Галлахера, действия когнитивного и социального.
Телесность изначально многообразна и реконфигуративна, она является сложным компонентом, включающимся в систему сетевых взаимосвязей вещей и знаков. Когда речь идет о репрезентации телесности, ее не стоит понимать как отражение или конституирующее отображение телесности. Скорее, речь идет о вплетении опыта тела в сложные взаимосвязи между символическими структурами и материальными объектами. Таким образом, мы можем предположить, что телесность проявляет свою агентность в символических и искусственных системах киберкультуры двумя основными способами: через встраивание в символический порядок и через включение в систему объектов, в которой происходит преодоление дихотомии между естественным и искусственным (техническим). С этой точки зрения, медиатизация возможна не только для ментальных процессов: убеждений, верований, представлений, но и для различных аспектов телесного опыта.
Можно выделить две формы медиатизации телесности, которые связаны с образом тела и схемой тела. Первая из этих форм — репрезентация телесности, которая связана с образом тела. Репрезентация телесности предполагает создание такой совокупности визуальных образов тела, которые интегрируются в систему самовосприятия собственного телесного образа. Именно эта форма создает представления о том, какими форматами, нормами, критериями должно обладать тело. Вторая — киборгизация телесности, связанная с перестройкой схемы тела. Киборгизация не обязательно предполагает инвазивное объединение тела и кибертехнологий. Она может формироваться как включение обязательных технологических компонентов в опыт существования тела. К числу таких технологий относятся, например, технологии селф-трекинга с помощью носимых гаджетов (смарт-часов и т. п.).
Пандемия COVID-19 эксплицировала опыт медиатизированной телесности, сделав его постоянным компонентом повседневности для максимального количества индивидов. При этом были задействованы оба компонента медиатизации: с одной стороны, опыт и функционирование отдельного тела проходили через фреймы заданного медиатизированным медицинским дискурсом представления о норме / патологии. С другой — селф-трекинг стал одной из обязательных составляющих биополитического контроля. Фактически видимость субъекта для различных структур, от которых зависели способы его существования, а иногда и сама возможность биологического выживания, зависела от степени его включенности в систему киборгизирующего мониторинга.
Медиатизированные практики, сложившиеся в ходе пандемии COVID-19, существенно изменили различные стороны общественной жизни. К числу форм человеческой деятельности, которые подверглись существенной трансформации, относится в том числе и спорт.
Спорт в контексте цифровой медиатизации.
Цифровая медиатизация существенно повлияла на сферу спорта. С развитием медицинских и фармацевтических технологий, распространением виртуальной реальности, сенсорных устройств, аналитики данных и многих других направлений кибертехнологические факторы начинают в существенной степени определять профиль спортсменов, систему организации и проведения спортивных мероприятий, распределение ресурсов в данной сфере. Это также относится и к системам развития спортсменов, методам тренировок, анализу результатов, выбору стратегии и тактики выступлений и т. д.
Медиатизирующие технологии изменяют саму суть спортивного опыта, поскольку трансформируют участие, восприятие и осмысление соревнований. Меняется характер коммуникации между спортсменами, тренерами, зрителями и вообще всеми членами спортивного сообщества. Такая эволюция заставляет задуматься о влиянии технологий на человеческое взаимодействие, аутентичность спортивного опыта и на тот факт, что отношения всех элементов в спортивной сфере своего рода переопределяются. Изменение моделей социального взаимодействия, формирования идентичности и социальных связей в этом контексте определяет этические, экзистенциальные и онтологические факторы, относящиеся к спорту.
Переход на виртуальные платформы заставляет нас пересмотреть традиционные представления о значимости физического присутствия в рамках взаимодействия между заинтересованными участниками, а также переосмыслить то, как «воплощается» спортивное мастерство — в частности, вероятно, меняется значение таких основных категорий, определяющих массовые мероприятия, как общее физическое пространство и эмоциональная составляющая — это то, что ранее являлось непременной составляющей традиционных спортивных соревнований. Сдвиг, обусловленный цифровизацией пространства, заставляет пересмотреть ценности, лежащие в основе спортивной культуры.
Переход к виртуальным форматам ставит под вопрос и такие основополагающие элементы спортивного соревнования, как соперничество, стремление к достижениям и командный дух. Еще предстоит четко определить, какие составляющие этих категорий сохраняют содержание и значение, какие искажения в них происходят и что подвергается трансформации. Во время пандемийного локдауна виртуализация спортивного зрелища проявилась настолько ярко, что это казалось абсурдом: спортивные состязания проводились на стадионах при отсутствии зрителей, и это привело к качественным изменениям спортивной сферы.
Традиционно спортивное зрелище представляет собой коллективный опыт, который разделяется спортсменами и болельщиками (не говоря уже обо всех заинтересованных участниках в рамках, например, спорта больших достижений, для которого создана целая индустрия). В любом случае коллектив-ная энергия толпы, особая атмосфера, а также взаимодействие между спортсменами и болельщиками формировали своего рода синергию, которая по сути и создавала спортивное событие. Поэтому полное выпадение ключевого эле-мента — физического участия — в условиях локдауна радикально изменило феноменологию спортивного зрелища, спорт перестал быть совместным переживанием участников и зрителей и превратился в виртуальное зрелище, транслируемое через экраны и лишенное живого человеческого присутствия, т. е. произошел разрыв между физической реальностью мероприятия и опытом его восприятия.
С другой стороны, виртуализация спортивного зрелища привела и к тому, что роль зрителя в спортивном процессе также изменилась. Невозможность для болельщиков физически присутствовать на стадионах заставила спортивные организации и телерадио- и сетевые вещательные компании искать новые способы вовлечения аудитории с помощью онлайн-трансляций, интерактивных форматов и применения технологий виртуальной реальности.
Таким образом, мы можем предположить, что и аудитория в свою очередь подвергается трансформации, «виртуализируясь» в своей сущности — и по идее зрители, находящиеся в различных локациях, должны испытывать те же (и при этом общие) эмоции и ощущения, которые они испытали бы, присутствуя на традиционных спортивных событиях. Но виртуализация спортивного зрелища меняет роль зрителей, и вместо того, чтобы выступать в качестве активных участников мероприятий, зрители превращаются в пассивных наблюдателей.
Эмоциональный накал, обмен эмоциями, взаимная поддержка и социальное взаимодействие — все то, что присуще традиционным спортивным событиям, в принципе теоретически может быть переведено в новые формы, но возникает вопрос, будут ли при этом потери, и если да, то какие. Говоря о трансгрессивности спортивных мероприятий, в рамках которой зрители создают уникальную атмосферу, переводя спорт из повседневной практики в некую утопическую форму, сочетающую элементы собственно спорта, искусства, праздника и даже мистерии, — можно предположить, что в отсутствие непосредственного участия зрителей все эти качества в комплексе вполне могут и не проявиться.
В качестве примера, подтверждающего сформулированное выше предположение, приведем уже упомянутое активно развивающееся направление в спорте — фиджитал. В его рамках подразумевается, что физическая составляющая пересекается с цифровой. К примеру, это может быть футбольный матч, в котором спортсмены участвуют в очках виртуальной реальности, с помощью которых действуют в иммерсивном гибридном пространстве. Подобные игры требуют качественного изменения правил, поскольку интенсивность переживаний увеличивается, время сжимается, и отдельные эпизоды матча становятся значительно короче. Корректировка правил требуется и потому, что традиционные форматы становятся скучными и неинтересными для «новых» спортсменов и зрителей, которым требуется более интенсивный, насыщенный и увлекательный опыт.
С этой стороны изменение правил в ответ на новые предпочтения подчеркивает динамичный характер спорта как культурного явления, требующего инновационных трансформаций для удовлетворения меняющихся вкусов и ожиданий участников в условиях стремительной динамики общественной жизни. И в этом смысле переход к цифровым видам спорта иллюстрирует и с новой стороны подтверждает масштабный сдвиг в сторону кардинального роста технологического влияния на различные аспекты жизни.
И, конечно, концепция фиджитал, предполагающая бесшовную интеграцию физического и цифрового спортивного (в контексте нашего исследования) опыта, связана с еще более радикальной стратегией и уже практикой киборгизации, ведь слияние физической и цифровой сфер в фиджитальном опыте отражает размывание границ между человеком и машиной, что уже относится непосредственно к теме киборгов. При этом, в контексте спорта особенно важно, что киборг представляет собой существо «с дополненной технологической реальностью, обеспечивающей ему своеобразное превосходство над обычной человеческой природой» (Попова, 2018: 107).
Вообще, при осмыслении категории цифрового приходится постоянно использовать термины, которые Л. Кэррол называл «портмонто» — слова, созданные из комбинации двух слов и получивших новые смыслы. «Коронакри-зис», «фиджитал» да и собственно «киборг» как раз относятся к таким словам. Киборг представляет собой кибернетический организм, т. е. существо, имеющее как органические, так и биомехатронные (интегрирующие биологические, электронные и механические элементы) органы и части тела.
В области спорта эта концепция уже сегодня может быть применена к спортсменам, которые используют технологические усовершенствования для улучшения своих результатов, такие как носимые устройства в виде датчиков или «умной» одежды для мониторинга и оптимизации тренировок и результатов. Кроме этого, технологии протезирования и создания экзоскелетов позволили ряду спортсменам с физическими особенностями успешно выступать на профессиональных соревнованиях. Такие примеры иллюстрируют как размываются границы между техникой и человеческим телом. И поскольку эти технологии продолжают развиваться, концепция «спортсмена-киборга» может быть использована для дальнейшего изучения как границ между человеком и машиной, так и последующих трансформаций общественной жизни.
Зритель также превращается или сможет в перспективе превратиться в киборга — подключение к сети без ограничений, развивающиеся технологии нейроинтерфейсов, переход коммуникации в социальные медиа создают возможности не только для виртуализации спортивных мероприятий, но и для трансформации природы зрителя.
Цифровая медиатизация существенно повлияла на сферу спорта. С развитием медицинских и фармацевтических технологий, распространением виртуальной реальности, сенсорных устройств, аналитики данных и многих других направлений кибертехнологические факторы начинают в существенной степени определять профиль спортсменов, систему организации и проведения спортивных мероприятий, распределение ресурсов в данной сфере. Это также относится и к системам развития спортсменов, методам тренировок, анализу результатов, выбору стратегии и тактики выступлений и т. д.
Медиатизирующие технологии изменяют саму суть спортивного опыта, поскольку трансформируют участие, восприятие и осмысление соревнований. Меняется характер коммуникации между спортсменами, тренерами, зрителями и вообще всеми членами спортивного сообщества. Такая эволюция заставляет задуматься о влиянии технологий на человеческое взаимодействие, аутентичность спортивного опыта и на тот факт, что отношения всех элементов в спортивной сфере своего рода переопределяются. Изменение моделей социального взаимодействия, формирования идентичности и социальных связей в этом контексте определяет этические, экзистенциальные и онтологические факторы, относящиеся к спорту.
Переход на виртуальные платформы заставляет нас пересмотреть традиционные представления о значимости физического присутствия в рамках взаимодействия между заинтересованными участниками, а также переосмыслить то, как «воплощается» спортивное мастерство — в частности, вероятно, меняется значение таких основных категорий, определяющих массовые мероприятия, как общее физическое пространство и эмоциональная составляющая — это то, что ранее являлось непременной составляющей традиционных спортивных соревнований. Сдвиг, обусловленный цифровизацией пространства, заставляет пересмотреть ценности, лежащие в основе спортивной культуры.
Переход к виртуальным форматам ставит под вопрос и такие основополагающие элементы спортивного соревнования, как соперничество, стремление к достижениям и командный дух. Еще предстоит четко определить, какие составляющие этих категорий сохраняют содержание и значение, какие искажения в них происходят и что подвергается трансформации. Во время пандемийного локдауна виртуализация спортивного зрелища проявилась настолько ярко, что это казалось абсурдом: спортивные состязания проводились на стадионах при отсутствии зрителей, и это привело к качественным изменениям спортивной сферы.
Традиционно спортивное зрелище представляет собой коллективный опыт, который разделяется спортсменами и болельщиками (не говоря уже обо всех заинтересованных участниках в рамках, например, спорта больших достижений, для которого создана целая индустрия). В любом случае коллектив-ная энергия толпы, особая атмосфера, а также взаимодействие между спортсменами и болельщиками формировали своего рода синергию, которая по сути и создавала спортивное событие. Поэтому полное выпадение ключевого эле-мента — физического участия — в условиях локдауна радикально изменило феноменологию спортивного зрелища, спорт перестал быть совместным переживанием участников и зрителей и превратился в виртуальное зрелище, транслируемое через экраны и лишенное живого человеческого присутствия, т. е. произошел разрыв между физической реальностью мероприятия и опытом его восприятия.
С другой стороны, виртуализация спортивного зрелища привела и к тому, что роль зрителя в спортивном процессе также изменилась. Невозможность для болельщиков физически присутствовать на стадионах заставила спортивные организации и телерадио- и сетевые вещательные компании искать новые способы вовлечения аудитории с помощью онлайн-трансляций, интерактивных форматов и применения технологий виртуальной реальности.
Таким образом, мы можем предположить, что и аудитория в свою очередь подвергается трансформации, «виртуализируясь» в своей сущности — и по идее зрители, находящиеся в различных локациях, должны испытывать те же (и при этом общие) эмоции и ощущения, которые они испытали бы, присутствуя на традиционных спортивных событиях. Но виртуализация спортивного зрелища меняет роль зрителей, и вместо того, чтобы выступать в качестве активных участников мероприятий, зрители превращаются в пассивных наблюдателей.
Эмоциональный накал, обмен эмоциями, взаимная поддержка и социальное взаимодействие — все то, что присуще традиционным спортивным событиям, в принципе теоретически может быть переведено в новые формы, но возникает вопрос, будут ли при этом потери, и если да, то какие. Говоря о трансгрессивности спортивных мероприятий, в рамках которой зрители создают уникальную атмосферу, переводя спорт из повседневной практики в некую утопическую форму, сочетающую элементы собственно спорта, искусства, праздника и даже мистерии, — можно предположить, что в отсутствие непосредственного участия зрителей все эти качества в комплексе вполне могут и не проявиться.
В качестве примера, подтверждающего сформулированное выше предположение, приведем уже упомянутое активно развивающееся направление в спорте — фиджитал. В его рамках подразумевается, что физическая составляющая пересекается с цифровой. К примеру, это может быть футбольный матч, в котором спортсмены участвуют в очках виртуальной реальности, с помощью которых действуют в иммерсивном гибридном пространстве. Подобные игры требуют качественного изменения правил, поскольку интенсивность переживаний увеличивается, время сжимается, и отдельные эпизоды матча становятся значительно короче. Корректировка правил требуется и потому, что традиционные форматы становятся скучными и неинтересными для «новых» спортсменов и зрителей, которым требуется более интенсивный, насыщенный и увлекательный опыт.
С этой стороны изменение правил в ответ на новые предпочтения подчеркивает динамичный характер спорта как культурного явления, требующего инновационных трансформаций для удовлетворения меняющихся вкусов и ожиданий участников в условиях стремительной динамики общественной жизни. И в этом смысле переход к цифровым видам спорта иллюстрирует и с новой стороны подтверждает масштабный сдвиг в сторону кардинального роста технологического влияния на различные аспекты жизни.
И, конечно, концепция фиджитал, предполагающая бесшовную интеграцию физического и цифрового спортивного (в контексте нашего исследования) опыта, связана с еще более радикальной стратегией и уже практикой киборгизации, ведь слияние физической и цифровой сфер в фиджитальном опыте отражает размывание границ между человеком и машиной, что уже относится непосредственно к теме киборгов. При этом, в контексте спорта особенно важно, что киборг представляет собой существо «с дополненной технологической реальностью, обеспечивающей ему своеобразное превосходство над обычной человеческой природой» (Попова, 2018: 107).
Вообще, при осмыслении категории цифрового приходится постоянно использовать термины, которые Л. Кэррол называл «портмонто» — слова, созданные из комбинации двух слов и получивших новые смыслы. «Коронакри-зис», «фиджитал» да и собственно «киборг» как раз относятся к таким словам. Киборг представляет собой кибернетический организм, т. е. существо, имеющее как органические, так и биомехатронные (интегрирующие биологические, электронные и механические элементы) органы и части тела.
В области спорта эта концепция уже сегодня может быть применена к спортсменам, которые используют технологические усовершенствования для улучшения своих результатов, такие как носимые устройства в виде датчиков или «умной» одежды для мониторинга и оптимизации тренировок и результатов. Кроме этого, технологии протезирования и создания экзоскелетов позволили ряду спортсменам с физическими особенностями успешно выступать на профессиональных соревнованиях. Такие примеры иллюстрируют как размываются границы между техникой и человеческим телом. И поскольку эти технологии продолжают развиваться, концепция «спортсмена-киборга» может быть использована для дальнейшего изучения как границ между человеком и машиной, так и последующих трансформаций общественной жизни.
Зритель также превращается или сможет в перспективе превратиться в киборга — подключение к сети без ограничений, развивающиеся технологии нейроинтерфейсов, переход коммуникации в социальные медиа создают возможности не только для виртуализации спортивных мероприятий, но и для трансформации природы зрителя.
Риски для спорта в контексте цифровой медиатизации.
Говоря о тех рисках, которые несут изменения для общества, необходимо рассмотреть, как трансформируется зрелищность спорта в условиях описываемых изменений. При анализе уместно сослаться на работу Г. Дебора «Общество спектакля», в которой автор предлагает критический анализ современного ему общества (Дебор, 2000). Философ описывал социум его времени как «общество зрелища», в котором доминировали образы, оторванные от реальности. Эти образы конструировали определенные модели и стратегии социального действия, в частности направленные на интенсификацию потребления. Для нас ценным является идея Дебора, что зрелище — это иллюзия жизни, формирующая социальную реальность и побуждающая человека пассивно потреблять образы, не участвуя активно в событиях жизни и лишаясь аутентичного опыта.
По его мнению, реальность превратилась во фрагментированную серию не связанных друг с другом зрелищ, что привело к потере подлинного человеческого взаимодействия и опыта. Сегодня эти идеи могут быть справедливыми в отношении многих современных явлений, таких как социальные медиа, где опыт отношений, дружба, эмоции и близость стали предметом торговли, что приводит к отчуждению и потере подлинности существования.
Также релевантной для исследования медиатизированной реальности является концепция «эстетического капитализма», под которым Дебор понимал состояние общества, когда визуальные и сенсорные аспекты товаров, услуг и опыта коммодифицируются для привлечения потребителей и создания экономической ценности, в формировании потребительского поведения и общественных ценностей. В цифровую эру эта концепция может быть уверенно применена к индустрии спорта, поскольку коммодификация спортивного опыта и акцент на визуальной привлекательности и зрелищности полностью соответствуют принципам эстетического капитализма.
Интеграция технологий, таких как виртуальная реальность и аналитика данных, в спортивную деятельность позволяет не только улучшить и более качественно анализировать спортивные результаты, но также способствует и созданию качественно нового контента для зрителей. Акцент на разработке визуально привлекательного спортивного продукта, а нередко и иммерсивного опыта, точно соответствует описанным принципам эстетического капитализма.
Рассмотренные выше явления свидетельствуют о риске утраты глубины и лишении измерений спортивных зрелищ, а говоря о зрителе, можно вспомнить об одномерном человеке, формирующимся под влиянием таких обстоятельств (Маркузе, 2003). Говоря о других рисках, возникающих в контексте трансформации спорта, следует отметить угрозу конфиденциальности, цифро-вое неравенство, потерю аутентичности и отчуждение человека. Эти риски определяют как этические, так и экзистенциальные проблемы, возникающие в связи с растущей цифровизацией спорта.
В частности, растущее применение цифровых технологий в спорте при-водит к тому, что все большее количество личных данных собирается и анализируется. Это включает различные показатели спортсменов, информацию о состоянии их здоровья, личные данные болельщиков и др. В результате возникают риски, что неприкосновенность частной жизни окажется нарушенной в результате киберпреступлений или технических ошибок. Более того, вторжение в частную жизнь спортсменов и болельщиков посредством использования технологий сбора, анализа и хранения данных, а также наблюдения за их активностью рождает этические дилеммы, связанные с правами собственности на данные, информированным согласием и потенциальным неправомерным использованием конфиденциальной информации. Здесь возникает проблема, эксплицированная Ш. Зубофф в работе «Эпоха надзорного капитализма» (Зу-бофф, 2022). Собранные с помощью кибертехнологий персональные данные преобразуются в поведенческие фьючерсы, которые становятся предметом купли-продажи среди экономических и политических акторов, заинтересованных в прогнозировании человеческого поведения и возможности на это поведение влиять.
Цифровая трансформация спорта потенциально способна усугубить существующую проблему социального неравенства, поскольку в результате может сложиться такая ситуация, при которой спортсмены получат различный уровень доступа к технологиям и тренировочным ресурсам. Такое цифровое неравенство способно увеличить разрыв в пользу привилегированных спортсменов, которые благодаря доступу к лучшим технологиям получат больше возможностей для профессионального развития и успеха в спорте. В этическом смысле это проблема относится к понятию справедливости и требованиям обеспечить социальное равенство.
С другой стороны, существующие трансформации подвергают риску аутентичность и чистоту спортивного опыта — описывая концепцию Дебора, мы вплотную подошли к этой теме. Виртуальные соревнования, стратегии, основанные на данных, и технологии дополненной реальности могут изменить саму суть спорта, размыв границу между реальностью и симуляцией, а шире — между человеческим и техническим. При этом, как отмечал Ж. Бодрийяр, виртуализация спорта в контексте современного (для его времени) потребительского общества и стратегий его развития означает формирование новых систем управления или даже, скорее, новых принципов в рамках «виртуальной экономики» (Бодрийяр, 2017).
Как отмечает А. А. Воронин, эволюция человека в целом подвергается все возрастающему влиянию науки, медицины, массовой культуры и широкого набора технологий, целью которых является совершенствование человеческого организма. Ранее одну из главных ролей в деле совершенствования как физического, так и морального состояния человека играл спорт. Но как мы уже отмечали, взаимодействие технологий со спортом отражается на природе человека, в частности, трансформируется человеческая телесность, и гуманитарные последствия этой трансформации еще только предстоит проанализировать и осознать (Воронин, 2020).
В рамках нашего исследования необходимо немного подробнее отметить проблему отчуждения человека от подлинного взаимодействия, физического опыта и эмоциональной связи, причем это относится как к спортсменам, так и к зрителям. Зависимость от технологий при проведении тренировок, анализа результатов и проведении спортивных мероприятий без физического участия болельщиков сведет к нулю роль человеческого фактора в спорте, и это, конечно, способно привести к отстраненности, отчуждению и даже (само) изоляции отдельных участников спортивной индустрии.
Говоря о тех рисках, которые несут изменения для общества, необходимо рассмотреть, как трансформируется зрелищность спорта в условиях описываемых изменений. При анализе уместно сослаться на работу Г. Дебора «Общество спектакля», в которой автор предлагает критический анализ современного ему общества (Дебор, 2000). Философ описывал социум его времени как «общество зрелища», в котором доминировали образы, оторванные от реальности. Эти образы конструировали определенные модели и стратегии социального действия, в частности направленные на интенсификацию потребления. Для нас ценным является идея Дебора, что зрелище — это иллюзия жизни, формирующая социальную реальность и побуждающая человека пассивно потреблять образы, не участвуя активно в событиях жизни и лишаясь аутентичного опыта.
По его мнению, реальность превратилась во фрагментированную серию не связанных друг с другом зрелищ, что привело к потере подлинного человеческого взаимодействия и опыта. Сегодня эти идеи могут быть справедливыми в отношении многих современных явлений, таких как социальные медиа, где опыт отношений, дружба, эмоции и близость стали предметом торговли, что приводит к отчуждению и потере подлинности существования.
Также релевантной для исследования медиатизированной реальности является концепция «эстетического капитализма», под которым Дебор понимал состояние общества, когда визуальные и сенсорные аспекты товаров, услуг и опыта коммодифицируются для привлечения потребителей и создания экономической ценности, в формировании потребительского поведения и общественных ценностей. В цифровую эру эта концепция может быть уверенно применена к индустрии спорта, поскольку коммодификация спортивного опыта и акцент на визуальной привлекательности и зрелищности полностью соответствуют принципам эстетического капитализма.
Интеграция технологий, таких как виртуальная реальность и аналитика данных, в спортивную деятельность позволяет не только улучшить и более качественно анализировать спортивные результаты, но также способствует и созданию качественно нового контента для зрителей. Акцент на разработке визуально привлекательного спортивного продукта, а нередко и иммерсивного опыта, точно соответствует описанным принципам эстетического капитализма.
Рассмотренные выше явления свидетельствуют о риске утраты глубины и лишении измерений спортивных зрелищ, а говоря о зрителе, можно вспомнить об одномерном человеке, формирующимся под влиянием таких обстоятельств (Маркузе, 2003). Говоря о других рисках, возникающих в контексте трансформации спорта, следует отметить угрозу конфиденциальности, цифро-вое неравенство, потерю аутентичности и отчуждение человека. Эти риски определяют как этические, так и экзистенциальные проблемы, возникающие в связи с растущей цифровизацией спорта.
В частности, растущее применение цифровых технологий в спорте при-водит к тому, что все большее количество личных данных собирается и анализируется. Это включает различные показатели спортсменов, информацию о состоянии их здоровья, личные данные болельщиков и др. В результате возникают риски, что неприкосновенность частной жизни окажется нарушенной в результате киберпреступлений или технических ошибок. Более того, вторжение в частную жизнь спортсменов и болельщиков посредством использования технологий сбора, анализа и хранения данных, а также наблюдения за их активностью рождает этические дилеммы, связанные с правами собственности на данные, информированным согласием и потенциальным неправомерным использованием конфиденциальной информации. Здесь возникает проблема, эксплицированная Ш. Зубофф в работе «Эпоха надзорного капитализма» (Зу-бофф, 2022). Собранные с помощью кибертехнологий персональные данные преобразуются в поведенческие фьючерсы, которые становятся предметом купли-продажи среди экономических и политических акторов, заинтересованных в прогнозировании человеческого поведения и возможности на это поведение влиять.
Цифровая трансформация спорта потенциально способна усугубить существующую проблему социального неравенства, поскольку в результате может сложиться такая ситуация, при которой спортсмены получат различный уровень доступа к технологиям и тренировочным ресурсам. Такое цифровое неравенство способно увеличить разрыв в пользу привилегированных спортсменов, которые благодаря доступу к лучшим технологиям получат больше возможностей для профессионального развития и успеха в спорте. В этическом смысле это проблема относится к понятию справедливости и требованиям обеспечить социальное равенство.
С другой стороны, существующие трансформации подвергают риску аутентичность и чистоту спортивного опыта — описывая концепцию Дебора, мы вплотную подошли к этой теме. Виртуальные соревнования, стратегии, основанные на данных, и технологии дополненной реальности могут изменить саму суть спорта, размыв границу между реальностью и симуляцией, а шире — между человеческим и техническим. При этом, как отмечал Ж. Бодрийяр, виртуализация спорта в контексте современного (для его времени) потребительского общества и стратегий его развития означает формирование новых систем управления или даже, скорее, новых принципов в рамках «виртуальной экономики» (Бодрийяр, 2017).
Как отмечает А. А. Воронин, эволюция человека в целом подвергается все возрастающему влиянию науки, медицины, массовой культуры и широкого набора технологий, целью которых является совершенствование человеческого организма. Ранее одну из главных ролей в деле совершенствования как физического, так и морального состояния человека играл спорт. Но как мы уже отмечали, взаимодействие технологий со спортом отражается на природе человека, в частности, трансформируется человеческая телесность, и гуманитарные последствия этой трансформации еще только предстоит проанализировать и осознать (Воронин, 2020).
В рамках нашего исследования необходимо немного подробнее отметить проблему отчуждения человека от подлинного взаимодействия, физического опыта и эмоциональной связи, причем это относится как к спортсменам, так и к зрителям. Зависимость от технологий при проведении тренировок, анализа результатов и проведении спортивных мероприятий без физического участия болельщиков сведет к нулю роль человеческого фактора в спорте, и это, конечно, способно привести к отстраненности, отчуждению и даже (само) изоляции отдельных участников спортивной индустрии.
Спорт в контексте пандемии: ретроспекция.
При этом в настоящее время трансформация спорта продолжается, и, находясь «внутри» этих процессов, их не так просто оценить, поэтому далее мы постараемся рассмотреть конкретный контекст — влияние пандемии COVID-19 на сферу спорта. Следствиями локдауна и прекращения коммуникаций в привычных формах стали, с одной стороны, отмена и перенос соревнований, тренировок и в целом массовых мероприятий, а с другой стороны, параллельно с этим начали ускоренно развиваться и распространяться новые форматы, основанные на продуктах цифровых технологий, такие как виртуальные и дистанционные соревнования и тренировки. Другими словами, спорт продемонстрировал себя как гибкую и инновационную, саморегулирующуюся и адаптивную систему.
Еще с одной стороны, пандемия подчеркнула значимость такой категории, как здоровье, также входящей в «комплекс» спорта и охватывающей как физические, так и психологические аспекты, в том числе в контексте спортивной деятельности. Однако мы не будем углубляться в данную тему, поскольку она несколько спекулятивна и ее стоит рассматривать скорее с социокультурных позиций (учитывая, скажем, такие явления, как «декларируемый ЗОЖ» — феномен, когда субъект покупает своего рода индульгенцию, приобретая продукты специальных марок или в особых магазинах, позиционируемых как производители и поставщики «здоровой», «чистой» и полезной еды, предлагающих по факту, как правило, в своей основе тот же набор ингредиентов, который содержат и обычные продукты питания).
Кроме этого, отдельно стоит обозначить сложную взаимосвязь между спортом и здоровьем. Хотя интуитивно может казаться, что спорт и здоровье взаимосвязаны напрямую, при более глубоком рассмотрении обнаруживается более сложное взаимодействие между этими двумя областями. Необходимо признать, что определение и содержание спорта выходят за рамки физической активности или поддержания физической формы. Как мы отметили в начале, спорт — это многогранный и сложный комплекс, включающий не только физические нагрузки, но и психологические, а также эмоциональные и социальные аспекты. Поэтому связь между спортом и здоровьем выходит за рамки простых причинно-следственных связей. Спорт и в качестве комплексной концепции, и как многослойная практика оказывает влияние на здоровье в нескольких измерениях, воздействуя не только на физическое состояние, но и на психическую устойчивость, эмоциональное равновесие, социальные взаимодействия и общее качество жизни — причем, не обязательно всегда положительно.
Таким образом, переход к виртуальным соревнованиям, онлайн-тренировкам и трансляциям, стимулированный пандемией, означает нечто большее, чем просто практическая адаптация к внешним обстоятельствам. Этот переход отражает фундаментальный сдвиг в восприятии и «взаимодействии» со спортом в рамках всей культуры, в результате чего переосмысляются, как мы уже обратили внимание, и сущность соревнований, и природа спортивных достижений, и аутентичность спортивного опыта.
Метапаразитарность.
Вышенаписанное справедливо, если мы рассуждаем в рамках традиционной системы координат. Но будет ли этот вывод релевантен, если мы примем во внимание гипотезу, что человеческий мир переходит в настоящее время к новым принципам существования? Для концептуализации этих новых принципов задолго до пандемии и широкого распространения идеи метавселенных была разработана концепция метапаразита (Гуров, 2018). Еще до этого данный термин использовался в биологии, но в 2017 г. он был введен в социогуманитарные исследования, а его значение было адаптировано для новых контекстов. По своему первоначальному определению, в гуманитарном смысле метапаразит символизирует распространение непонятных и зачастую враждебных явлений в современном обществе, коренящихся в многоуровневых и пересекаю-щихся информационных потоках. Это происходит по логике, схожей с тем, как распространяются инфекции, порождая эпидемии и пандемии. Важно отме-тить, что метапаразит возникает в результате взаимодействия, пересечения и слияния сложного массива природных явлений, биологических и социокультурных факторов, которые трансформируются и приобретают всеобъемлющий масштаб, начиная вести самостоятельную жизнь. Концепция метапаразита рассматривает сложное взаимодействие между различными слоями бытия, подчеркивая взаимосвязь информации, биологии и социокультурной динамики в формировании современных общественных ландшафтов. Она возникла в результате быстрого и глубокого развития и распространения цифровых технологий, в результате чего ключевые явления и инструменты современной жизни выходят за пределы естественных границ.
В контексте настоящего исследования понятие метапаразитизма можно рассматривать как явление, описывающее виртуализацию спортивного зрелища, когда визуальные аспекты события существуют как независимо от присутствия зрителей, так и в рамках взаимодействия между заинтересованными участниками, например, спортсменов и болельщиков.
В этом контексте необходимо пересмотреть отношения между зрелищем, участниками и зрителями. В рамках метапаразитизма виртуализация спортивного зрелища может рассматриваться как форма самораспространяющегося явления, оторванного от своих первоисточников — спортсменов и зрителей. Это подчеркивает возможность существования спортивных визуальных элементов в виртуальной или смешанной формах, оторванных от физической реальности.
Возвращаясь к сущности спорта, в первую очередь, к его природе и целям, мы понимаем, что там, где что-то развивается, одновременно рядом часто происходит обратный процесс — разрушение и упадок. И в описываемых новых условиях представляется сложным определить, сохранился ли комплекс, необходимый для того, чтобы спортивное событие было действительно значимым, включающим, как мы писали, участие спортсменов, эмоциональное вовлечение зрителей и сам соревновательный процесс. Сложно определить, какие ценности и смыслы сохраняются, какие меняют свое содержание, а какие исчезают, а также установить, что нового появляется в условиях, когда зрелище оказалось отделенным от непосредственного зрителя.
Ответить на эти вопросы могут помочь размышления о качестве взаимодействия в отсутствии живого общения, что имеет решающее значение для формирования глубоких связей и чувства общности. Пандемия COVID-19 привела к фактической физической изоляции людей, ограничив возможности для общения лицом к лицу и социального взаимодействия, и это стимулировало развитие дистанционных форм коммуникации. Это произошло явочным порядком, не в рамках какой-либо эволюции, а как кризисное решение, ведь на тот момент дистант стал единственным способом общения, взаимной поддержки и проявления солидарности в обществе. При этом постфактум многие отмечали, что это стало в какой-то степени паллиативом, т. е. не смогло обеспечить то же качество, какое было ранее. Если экстраполировать этот вывод на ситуацию, относящуюся к спорту, можно предположить, что качество взаимодействия в новых условиях также несколько деградировало.
Отдельно отметим, что спорт как зрелище и форма общественного взаимодействия играет важную роль в формировании и поддержании индивидуальной и коллективной идентичности. И описанные выше трансформации в спорте отражают более широкие общественные тенденции — изменение социокультурной системы, а в перспективе, возможно, и человеческой природы.
Заключение.
Растущая роль технологий определяет фундаментальную трансформацию того, как люди занимаются спортом, организуют, проводят, а также потребляют спортивные события. Все это позволяет говорить о новом измерении размывания границ между физической и цифровой сферами. Как было показано, процессы, происходящие в спорте, отражают более масштабные изменения общественной жизни, заставляя исследователей размышлять об эволюции отношений между человеком и технологиями, об изменении ценностей и культурных практик, а также о возможных последствиях цифровизации для человеческой природы, культуры и цивилизации. В этой связи в продолжении представленной темы перспективным может оказаться изучение того влияния, которое должна оказать интеграция технологий в спортивную деятельность с точки зрения результатов и возможностей спортсменов, этических аспектов киборгизации, а также того, как киборгизация в контексте спортивной деятельности размывает границу между человеком и машиной, изменяя саму концепцию спорта и определение спортсмена.
При этом в настоящее время трансформация спорта продолжается, и, находясь «внутри» этих процессов, их не так просто оценить, поэтому далее мы постараемся рассмотреть конкретный контекст — влияние пандемии COVID-19 на сферу спорта. Следствиями локдауна и прекращения коммуникаций в привычных формах стали, с одной стороны, отмена и перенос соревнований, тренировок и в целом массовых мероприятий, а с другой стороны, параллельно с этим начали ускоренно развиваться и распространяться новые форматы, основанные на продуктах цифровых технологий, такие как виртуальные и дистанционные соревнования и тренировки. Другими словами, спорт продемонстрировал себя как гибкую и инновационную, саморегулирующуюся и адаптивную систему.
Еще с одной стороны, пандемия подчеркнула значимость такой категории, как здоровье, также входящей в «комплекс» спорта и охватывающей как физические, так и психологические аспекты, в том числе в контексте спортивной деятельности. Однако мы не будем углубляться в данную тему, поскольку она несколько спекулятивна и ее стоит рассматривать скорее с социокультурных позиций (учитывая, скажем, такие явления, как «декларируемый ЗОЖ» — феномен, когда субъект покупает своего рода индульгенцию, приобретая продукты специальных марок или в особых магазинах, позиционируемых как производители и поставщики «здоровой», «чистой» и полезной еды, предлагающих по факту, как правило, в своей основе тот же набор ингредиентов, который содержат и обычные продукты питания).
Кроме этого, отдельно стоит обозначить сложную взаимосвязь между спортом и здоровьем. Хотя интуитивно может казаться, что спорт и здоровье взаимосвязаны напрямую, при более глубоком рассмотрении обнаруживается более сложное взаимодействие между этими двумя областями. Необходимо признать, что определение и содержание спорта выходят за рамки физической активности или поддержания физической формы. Как мы отметили в начале, спорт — это многогранный и сложный комплекс, включающий не только физические нагрузки, но и психологические, а также эмоциональные и социальные аспекты. Поэтому связь между спортом и здоровьем выходит за рамки простых причинно-следственных связей. Спорт и в качестве комплексной концепции, и как многослойная практика оказывает влияние на здоровье в нескольких измерениях, воздействуя не только на физическое состояние, но и на психическую устойчивость, эмоциональное равновесие, социальные взаимодействия и общее качество жизни — причем, не обязательно всегда положительно.
Таким образом, переход к виртуальным соревнованиям, онлайн-тренировкам и трансляциям, стимулированный пандемией, означает нечто большее, чем просто практическая адаптация к внешним обстоятельствам. Этот переход отражает фундаментальный сдвиг в восприятии и «взаимодействии» со спортом в рамках всей культуры, в результате чего переосмысляются, как мы уже обратили внимание, и сущность соревнований, и природа спортивных достижений, и аутентичность спортивного опыта.
Метапаразитарность.
Вышенаписанное справедливо, если мы рассуждаем в рамках традиционной системы координат. Но будет ли этот вывод релевантен, если мы примем во внимание гипотезу, что человеческий мир переходит в настоящее время к новым принципам существования? Для концептуализации этих новых принципов задолго до пандемии и широкого распространения идеи метавселенных была разработана концепция метапаразита (Гуров, 2018). Еще до этого данный термин использовался в биологии, но в 2017 г. он был введен в социогуманитарные исследования, а его значение было адаптировано для новых контекстов. По своему первоначальному определению, в гуманитарном смысле метапаразит символизирует распространение непонятных и зачастую враждебных явлений в современном обществе, коренящихся в многоуровневых и пересекаю-щихся информационных потоках. Это происходит по логике, схожей с тем, как распространяются инфекции, порождая эпидемии и пандемии. Важно отме-тить, что метапаразит возникает в результате взаимодействия, пересечения и слияния сложного массива природных явлений, биологических и социокультурных факторов, которые трансформируются и приобретают всеобъемлющий масштаб, начиная вести самостоятельную жизнь. Концепция метапаразита рассматривает сложное взаимодействие между различными слоями бытия, подчеркивая взаимосвязь информации, биологии и социокультурной динамики в формировании современных общественных ландшафтов. Она возникла в результате быстрого и глубокого развития и распространения цифровых технологий, в результате чего ключевые явления и инструменты современной жизни выходят за пределы естественных границ.
В контексте настоящего исследования понятие метапаразитизма можно рассматривать как явление, описывающее виртуализацию спортивного зрелища, когда визуальные аспекты события существуют как независимо от присутствия зрителей, так и в рамках взаимодействия между заинтересованными участниками, например, спортсменов и болельщиков.
В этом контексте необходимо пересмотреть отношения между зрелищем, участниками и зрителями. В рамках метапаразитизма виртуализация спортивного зрелища может рассматриваться как форма самораспространяющегося явления, оторванного от своих первоисточников — спортсменов и зрителей. Это подчеркивает возможность существования спортивных визуальных элементов в виртуальной или смешанной формах, оторванных от физической реальности.
Возвращаясь к сущности спорта, в первую очередь, к его природе и целям, мы понимаем, что там, где что-то развивается, одновременно рядом часто происходит обратный процесс — разрушение и упадок. И в описываемых новых условиях представляется сложным определить, сохранился ли комплекс, необходимый для того, чтобы спортивное событие было действительно значимым, включающим, как мы писали, участие спортсменов, эмоциональное вовлечение зрителей и сам соревновательный процесс. Сложно определить, какие ценности и смыслы сохраняются, какие меняют свое содержание, а какие исчезают, а также установить, что нового появляется в условиях, когда зрелище оказалось отделенным от непосредственного зрителя.
Ответить на эти вопросы могут помочь размышления о качестве взаимодействия в отсутствии живого общения, что имеет решающее значение для формирования глубоких связей и чувства общности. Пандемия COVID-19 привела к фактической физической изоляции людей, ограничив возможности для общения лицом к лицу и социального взаимодействия, и это стимулировало развитие дистанционных форм коммуникации. Это произошло явочным порядком, не в рамках какой-либо эволюции, а как кризисное решение, ведь на тот момент дистант стал единственным способом общения, взаимной поддержки и проявления солидарности в обществе. При этом постфактум многие отмечали, что это стало в какой-то степени паллиативом, т. е. не смогло обеспечить то же качество, какое было ранее. Если экстраполировать этот вывод на ситуацию, относящуюся к спорту, можно предположить, что качество взаимодействия в новых условиях также несколько деградировало.
Отдельно отметим, что спорт как зрелище и форма общественного взаимодействия играет важную роль в формировании и поддержании индивидуальной и коллективной идентичности. И описанные выше трансформации в спорте отражают более широкие общественные тенденции — изменение социокультурной системы, а в перспективе, возможно, и человеческой природы.
Заключение.
Растущая роль технологий определяет фундаментальную трансформацию того, как люди занимаются спортом, организуют, проводят, а также потребляют спортивные события. Все это позволяет говорить о новом измерении размывания границ между физической и цифровой сферами. Как было показано, процессы, происходящие в спорте, отражают более масштабные изменения общественной жизни, заставляя исследователей размышлять об эволюции отношений между человеком и технологиями, об изменении ценностей и культурных практик, а также о возможных последствиях цифровизации для человеческой природы, культуры и цивилизации. В этой связи в продолжении представленной темы перспективным может оказаться изучение того влияния, которое должна оказать интеграция технологий в спортивную деятельность с точки зрения результатов и возможностей спортсменов, этических аспектов киборгизации, а также того, как киборгизация в контексте спортивной деятельности размывает границу между человеком и машиной, изменяя саму концепцию спорта и определение спортсмена.
Список литературы:
- Бодрийяр, Ж. (2017) Симулякры и симуляция / пер. с фр.: А. Качалов. М. : Изд. дом «Постум». 240 с. ISBN 978-5-91478-023-1.
- Воронин, А. А. (2020) Антропологические основы спорта: к постановке вопроса // Знание. Понимание. Умение. № 4. С. 96–107. EDN TYPBHZ. DOI 10.17805/zpu.2020.4.8.
- Гуров, О. Н. (2018) «Метапаразит» как феномен современной массовой культуры // Межкультурная коммуникация: Запад — Россия — Восток : мат. Межд. студ. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 7–10 ноября 2017 г.) / ред.: Е. Е. Тихомирова. Новосибирск : Изд-во НГПУ. С. 41–47. EDN YSUENQ.
- Гуссерль, Э. (2009) Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая / пер с нем.: А. В. Михайлов, вступ. ст.: В. А. Куренной. М. : Академический проект. 489 с. ISBN 978-5-8291-1042-0.
- Дебор, Г. (2000) Общество спектакля / пер. с фр.: С. Офертас, М. Якубо-вич ; ред.: Б. Скуратов ; послеслов.: А. Кефал. М. : Логос. 184 с. ISBN 5-8163-0008-3.
- Зубофф, Ш. (2022) Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти / пер. с англ.: А. Ф. Васильев ; ред.: Я. Охонько, А. Смирнов. М. : Изд-во Ин-та Гайдара. 784 с. ISBN 978-5-93255-613-9.
- Колесова, И. С. (2022) Трансформация представлений об идеальном человеке в истории физической культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. № 6 (110). С. 63–72. EDN ZBIGWZ. DOI 10.24412/1997-0803-2022-6110-63-72.
- Маркузе, Г. (2003) Одномерный человек // Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального общества / пер. с англ., послесл., примеч.: А. А. Юдин ; сост., предисл.: В. Ю. Кузнецов. М. : АСТ. С. 251–515.
- Мерло-Понти, М. (1999) Феноменология восприятия / пер. с франц. под ред.: И. С. Вдовина, С. Л. Фокин. СПб. : Ювента ; Наука. 605, [1] с. EDN QWJLFB. ISBN 5-02-026807-0.
- Нанси, Ж.-Л. (2006) Тело: вовне или внутри. Пятьдесят восемь показа-ний о теле / пер. с фр.: А. Гараджа // Синий диван. М. : Три квадрата. Вып. 9. С. 122–138.
- Попова, О. В. (2018) Спорт в мире технологий: этос и биополитика // Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 102–111. EDN YABLRJ. DOI 10.17805/ zpu.2018.3.9.
- Столяров, В. И. (2005) Взаимоотношение спорта и политики (социально-философский и методологический анализ) // Взаимоотношение спорта и политики с позиции гуманизма : сб. статей / сост. и ред.: В. И. Столяров, Д. А. Са-галаков, Е. В. Стопникова. М. : Астра-Пресс. Вып. 3. С. 5–123.
- Couldry, N. (2008) Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital storytelling // New Media & Society. Vol. 10, No. 3. P.373–391. DOI 10.1177/1461444808089414.
- Couldry, N., Hepp, A. (2017) The mediated construction of reality. Cambridge ; Malden, MA : Polity Press. ix, 290 p. ISBN 978-0-7456-8130-6.
- Gallagher, S. (2005) How the body shapes the mind. Oxford : Oxford Univer-sity Press. ix, 284 p. DOI 10.1093/0199271941.001.0001.
- Hjarvard, S. (2007) Changing media, changing language: The mediatization of society and the spread of English and medialects : Paper presented to 57th ICA Conference, San Francisco, May 23–28.
- Hjarvard, S. (2012) Doing the right thing. Media and communication studies in a mediatized world // Nordicom Review. Supplement. Vol. 33, no. 1. P. 27–34.
- Krotz, F. (2009) Mediatization: A concept with which to grasp media and so-cietal change // Mediatization: Concept, changes, consequences / ed. by K. Lundby. N.Y.: Peter Lang. P. 21–40.
- Thompson, J. B. (1995) The media and modernity: A social theory of the me-dia. Stanford, CA : Stanford University Press. viii, 314 p. ISBN 0-8047-2678-7.


