Переосмысление природы познания и опыта: Энактивизм в контексте современных технологических трансформаций
Гуров Олег Николаевич,
«Технологос» №4, 2024
ГАУГН, Москва, РФ
«Технологос» №4, 2024
ГАУГН, Москва, РФ
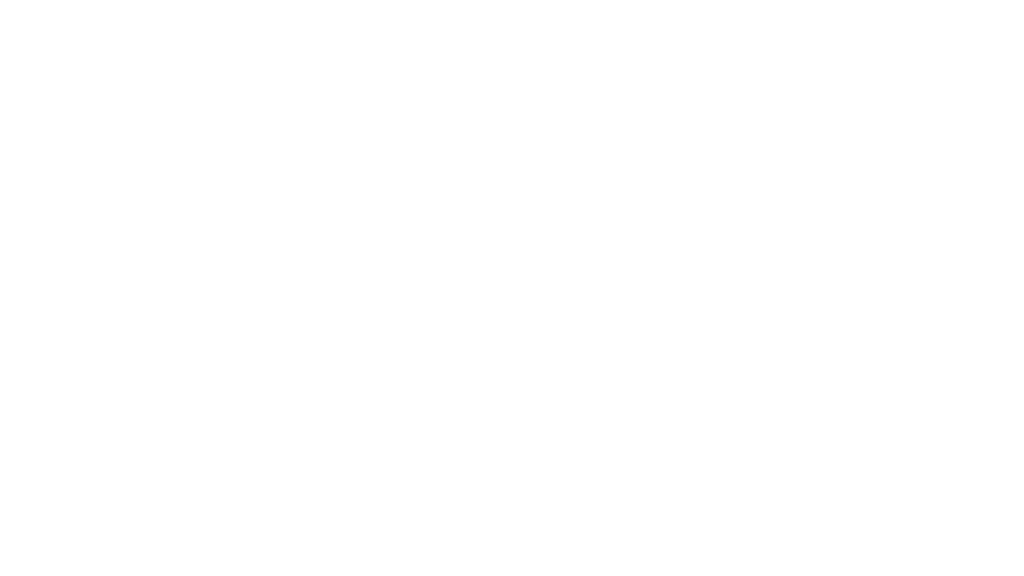
При цитировании просьба использовать следующую ссылку:
Гуров О.Н., «Переосмысление природы познания и опыта: энактивизм в контексте современных технологических трансформаций», Технологос, 2024, №4, с. 63-79.
Гуров О.Н., «Переосмысление природы познания и опыта: энактивизм в контексте современных технологических трансформаций», Технологос, 2024, №4, с. 63-79.
Аннотация.
В работе делается попытка представить новый угол зрения на энактивистский подход, который сам по себе открывает новые горизонты для осмысления и понимания таких современных и неоднозначных явлений общественной жизни, как киборгизация. В контексте данной статьи под киборгизацией можно понимать процессы технологической трансформации человеческой природы, при которых происходит интеграция технологических устройств с телом человека, что ведет к возникновению новых форм воплощенного познания и опыта, и в результате чего размываются границы между человеческим и машинным компонентами, а также формируются качественно новые способы взаимодействия с окружающей средой. В этой связи посредством применения энактивистского подхода возможно продуктивно исследовать этические проблемы в контексте современных технологических трансформаций. В статье представлен новый взгляд на природу познания и опыта через призму энактивизма с целью продемонстрировать его потенциал для преодоления ограничений традиционных натуралистических концепций сознания. Автор стремится проработать ключевые аспекты энактивистской теории, от базовых принципов визуального восприятия до сложных вопросов формирования морального суждения и идеологического угнетения. Особое внимание уделяется синтезу энактивизма с принципом свободной энергии и потенциалу его применения в деле исследований проблемам человеческой киборгизации. В статье доказывается, что энактивистский подход позволяет преодолеть дуалистические представления о взаимодействии человека и технологий, и вместе с этим несет потенциал достижения более целостного понимания сущности и процессов технологической трансформации человеческой природы. На основе критического анализа утопического и научного направлений в развитии энактивизма намечаются перспективные пути дальнейших исследований. Проведенный анализ открывает широкие возможности для создания этически выверенной философской базы технологического развития, в рамках которой становится возможным адекватно осмысливать вызовы современной эпохи и предлагать конструктивные решения возникающим этическим проблемам.
Ключевые слова: идеологическое угнетение, киборгизация, моральное суждение, натурализм, познание, технологическая трансформация, философия сознания, этика технологий, энактивизм.
В работе делается попытка представить новый угол зрения на энактивистский подход, который сам по себе открывает новые горизонты для осмысления и понимания таких современных и неоднозначных явлений общественной жизни, как киборгизация. В контексте данной статьи под киборгизацией можно понимать процессы технологической трансформации человеческой природы, при которых происходит интеграция технологических устройств с телом человека, что ведет к возникновению новых форм воплощенного познания и опыта, и в результате чего размываются границы между человеческим и машинным компонентами, а также формируются качественно новые способы взаимодействия с окружающей средой. В этой связи посредством применения энактивистского подхода возможно продуктивно исследовать этические проблемы в контексте современных технологических трансформаций. В статье представлен новый взгляд на природу познания и опыта через призму энактивизма с целью продемонстрировать его потенциал для преодоления ограничений традиционных натуралистических концепций сознания. Автор стремится проработать ключевые аспекты энактивистской теории, от базовых принципов визуального восприятия до сложных вопросов формирования морального суждения и идеологического угнетения. Особое внимание уделяется синтезу энактивизма с принципом свободной энергии и потенциалу его применения в деле исследований проблемам человеческой киборгизации. В статье доказывается, что энактивистский подход позволяет преодолеть дуалистические представления о взаимодействии человека и технологий, и вместе с этим несет потенциал достижения более целостного понимания сущности и процессов технологической трансформации человеческой природы. На основе критического анализа утопического и научного направлений в развитии энактивизма намечаются перспективные пути дальнейших исследований. Проведенный анализ открывает широкие возможности для создания этически выверенной философской базы технологического развития, в рамках которой становится возможным адекватно осмысливать вызовы современной эпохи и предлагать конструктивные решения возникающим этическим проблемам.
Ключевые слова: идеологическое угнетение, киборгизация, моральное суждение, натурализм, познание, технологическая трансформация, философия сознания, этика технологий, энактивизм.
Введение
Не нужно пристально вглядываться, чтобы увидеть, что мир сегодня стоит на пороге беспрецедентных технологических перемен, и что уже сегодня можно почувствовать, как размываются привычные границы между человеческим и машинным. Иногда сегодняшний день даже называют эпохой киборгизации. В этих условиях как никогда остро ощущается потребность взять на вооружение новые инструменты, чтобы с их помощью осмыслить такие кардинальные изменения [1]. Энактивизм, зародившийся как своего рода нестандартный подход в когнитивной науке, по нашему мнению, открывает уникальные перспективы для погружения в саму суть взаимного проникновения между человеческой природой и технологиями [2].
В связи с этим основная цель исследования – проанализировать применимость энактивистской теории к проблемам философии и этики киборгизации, а также оценить ее возможности в части разработки перспективных подходов к осмыслению проблемы трансформации человека под воздействием технологий.
Задачи:
Методологически исследование основано на критическом анализе литературы по энактивизму, философии сознания и этике технологий. Применяется метод концептуального анализа для выявления ключевых понятий энактивистского подхода и их приложения к проблемам киборгизации. Также в работе используется сравнительный метод для сопоставления энактивизма с другими подходами в когнитивной науке и философии техники.
Исследование направлено на подтверждение гипотезы, заключающейся в том, что энактивистский подход обладает значительным потенциалом для формирования новой философского подхода, с помощью которого возможно адекватно осмыслить процессы изменения человеческой природы в контексте технологического развития и предложить этически обоснованные принципы развития технологий киборгизации.
Не нужно пристально вглядываться, чтобы увидеть, что мир сегодня стоит на пороге беспрецедентных технологических перемен, и что уже сегодня можно почувствовать, как размываются привычные границы между человеческим и машинным. Иногда сегодняшний день даже называют эпохой киборгизации. В этих условиях как никогда остро ощущается потребность взять на вооружение новые инструменты, чтобы с их помощью осмыслить такие кардинальные изменения [1]. Энактивизм, зародившийся как своего рода нестандартный подход в когнитивной науке, по нашему мнению, открывает уникальные перспективы для погружения в саму суть взаимного проникновения между человеческой природой и технологиями [2].
В связи с этим основная цель исследования – проанализировать применимость энактивистской теории к проблемам философии и этики киборгизации, а также оценить ее возможности в части разработки перспективных подходов к осмыслению проблемы трансформации человека под воздействием технологий.
Задачи:
- Проанализировать ключевые положения энактивизма как альтернативной теории познания и оценить его потенциал для формирования новой философии.
- Исследовать применимость энактивистского подхода к проблемам натурализма в философии сознания и его соотношение с принципом свободной энергии.
- Изучить энактивистский взгляд на проблемы морального суждения и формирования сознания в контексте киборгизации.
- Проанализировать этические аспекты киборгизации с позиций энактивизма, включая вопросы идеологического угнетения и технологической трансформации человека.
- Оценить потенциал энактивизма, рассмотрев утопический и научный подходы к его развитию.
Методологически исследование основано на критическом анализе литературы по энактивизму, философии сознания и этике технологий. Применяется метод концептуального анализа для выявления ключевых понятий энактивистского подхода и их приложения к проблемам киборгизации. Также в работе используется сравнительный метод для сопоставления энактивизма с другими подходами в когнитивной науке и философии техники.
Исследование направлено на подтверждение гипотезы, заключающейся в том, что энактивистский подход обладает значительным потенциалом для формирования новой философского подхода, с помощью которого возможно адекватно осмыслить процессы изменения человеческой природы в контексте технологического развития и предложить этически обоснованные принципы развития технологий киборгизации.
Энактивизм как альтернативная теория визуального восприятия.
Современная когнитивная наука находится в поиске новых подходов к пониманию природы восприятия. Энактивизм является одной из наиболее перспективных альтернатив традиционным теориям. Поэтому далее мы рассмотрим, как энактивизм переосмысливает процесс визуального восприятия и какие новые горизонты это открывает для осмысления человеческого познания.
В отличие от традиционных теорий, рассматривающих восприятие как пассивный процесс создания внутренних репрезентаций внешнего мира, согласно энактивизму, субъект активно формирует свой перцептивный опыт посредством сенсомоторного взаимодействия с окружающей средой [3] [4]. Этот подход в последнее время становится все более значимым, поскольку современные исследования все чаще обращаются к взаимосвязи между познанием и телесностью. Внедрение нейроинтерфейсов и других устройств, расширяющих сенсорные возможности человека, требует серьезно переосмыслить природу перцептивного опыта и его связь с телесностью.
Согласно идеям Алве Ноэ, одного из ведущих представителей энактивизма, характер и содержание перцептивного опыта определяются имплицитным (или неявным) знанием воспринимающего субъекта о том, как сенсорная стимуляция изменяется в результате движения - как самого субъекта, так и объектов в окружающей среде. Такое неявное знание, которое Ноэ называет «сенсомоторными совпадениями» или «сенсомоторными контингенциями» (иными словами, связями/зависимостями), представляет собой не эксплицитное пропозициональное знание, а скорее практическое «знание-как». Эта концепция имеет важные импликации для разработки киборгианских технологий, направленных на расширение или модификацию сенсомоторных способностей человека [4].
Таким образом, в основе энактивистской теории лежит идея сенсомоторных зависимостей – тесной связи между движениями человека и тем, как меняются его ощущения [5]. Эти зависимости связывают реальные объекты и их свойства с паттернами изменений в сенсорной стимуляции. Например, знание о том, как изменяется угловой размер объекта при приближении или удалении, является частью такого неявного сенсомоторного знания. При рассмотрении процессов интеграции человека и технологий возникает вопрос, как внедрение искусственных сенсорных систем может изменить такие связи и, следовательно, характер перцептивного опыта.
Согласно энактивизму, внутренние репрезентации недостаточны для полного объяснения механизма восприятия. Согласно Ноэ, перцептивный опыт не только зависит от применения имплицитного знания о сенсомоторных закономерностях, но и конституируется этим применением. Таким образом, восприятие рассматривается как активный процесс исследования мира, в котором субъект использует свое неявное знание для извлечения информации из окружающей среды. Энактивизм по-новому осмысляет то, как мы переживаем субъективный опыт и воспринимаем качественные аспекты сознания. Однако остаются вопросы, насколько полно данный подход способен объяснить все аспекты субъективного перцептивного опыта, особенно такие, которые, по-видимому, не зависят напрямую от сенсомоторных паттернов. В этом смысле развитие технологий киборгизации, таких как, например, нейропротезирование или другие проекты, направленные на расширение сенсорных возможностей, дает возможности для эмпирических проверок и, следовательно, дальнейшего развития энактивистских теорий восприятия.
Таким образом, энактивистская теория восприятия предлагает новый и даже по-своему инновационный взгляд на природу перцептивного опыта, делая акцент на его активном, воплощенном и контекстуально-зависимом характере. Этот подход не только бросает вызов традиционным представлениям о восприятии, но и открывает новые горизонты в части исследования и понимания человеческого познания в целом. Итак, рассмотрев основные положения энактивизма, далее мы обратимся к его роли в решении ключевых проблем философии сознания.
Проблема натурализма в философии сознания.
Начнем с того, что натурализм в философии сознания стремится объяснить феномен сознания в рамках научной картины мира. Однако при этом подходе мы неизбежно сталкиваемся с рядом серьезных проблем. Поэтому нам необходимо рассмотреть, как энактивизм интерпретирует проблему натурализма и какие возможности для философии сознания открываются в этом ключе.
Центральной проблемой философии сознания, очевидно, является вопрос о месте сознания в природе. Однако при такой постановке вопроса мы уже неявно предполагаем определенное понимание природы. Различные эпистемологические подходы, определяющие познание, ведут к различным метафизическим следствиям относительно устройства реальности [6]. В этой связи можно выделить две основные эпистемологические позиции:
Первый подход лежит в основе большинства современных натуралистических подходов в философии сознания, и, собственно, он и порождает «трудную проблему сознания» (Чалмерс). Вторая позиция развивается в экологической теории восприятия Гибсона, сенсомоторных теориях и некоторых вариантах натурализации феноменологии.
Ключевой тезис трансцендентальной феноменологии Гуссерля состоит в том, что эпистемология должна предшествовать метафизике. Анализ структуры опыта в рамках феноменологической редукции (эпохе) является необходимым условием построения метафизики [7].
В статической феноменологии конституирования Гуссерль разрабатывает анализ восприятия, допускающий как чувственное содержание сознания, так и чувственные качества конституированных объектов. Интенциональность сознания конституирует объект через «одушевление» ощущений.
Однако этот подход вызывает определенное беспокойство: не ведет ли он к субъективному идеализму, несмотря на декларируемую метафизическую нейтральность [8]? Гуссерль осознавал эту проблему и указывал, что статический анализ является предварительным и должен быть дополнен генетическим исследованием.
В генетической феноменологии Гуссерль исследует временной генезис опыта. Ключевая идея состоит в том, что конституирование объектов опыта является одновременно конституированием самой субъективности. Субъект и объект со-конституируются во временном процессе опыта.
Эта идея имеет глубокие параллели с энактивистским подходом Варелы, Томпсона и Рош. Центральное понятие их подхода – «совместное возникновение» (dependent co-arising) субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности. Эта идея восходит к буддийской философии мадхьямаки.
Анализируя феномен цветового зрения, Варела и Томпсон разрабатывают подход, альтернативный как цветовому субъективизму, так и объективизму. Они предлагают реляционистскую концепцию, согласно которой субъект и объект не предзаданы, а конституируются в процессе опыта.
Синтез генетической феноменологии и энактивизма позволяет развить «энактивистскую онтологию» - исследование эмпирической реальности как результат взаимного конституирования субъекта и объекта [9]. При этом вопрос об «окончательной реальности» остается открытым [10].
Энактивистская онтология предлагает альтернативный подход как научному реализму, так и наивному эмпиризму в философии сознания. Она позволяет исследовать корреляции между нейрофизиологическими состояниями и феноменологическим опытом, не редуцируя одно к другому.
Многообещающим направлением развития этого подхода является нейрофеноменология Варелы. Она предлагает методологию исследования соотношения данных от первого и третьего лица, избегая при этом проблемы редукции, характерной для традиционной философии сознания.
Энактивистская онтология по-новому рассматривает связь между познающим и познаваемым, что открывает новые перспективы для современной философии сознания. Технологические расширения тела и когнитивных способностей человека изменяют структуру опыта и конституирования реальности. Такой подход позволяет преодолеть дихотомию «естественное-искусственное» в анализе киборгизации. здесь киберулучшения могут рассматриваться не как внешние дополнения, а как неотъемлемые компоненты энактивистской системы «организм-среда».
Все это открывает новый потенциал для осмысления моральных последствий слияния человека и технологий. Вместо традиционного противопоставления «естественного» и «искусственного» в человеке, акцент смещается на анализ изменения способов конституирования опыта и реальности.
Важным направлением исследований становится феноменология киборгизированного опыта - как изменяется структура восприятия, телесности, самосознания при интеграции технологических модификаций. Это позволяет выявить новые измерения субъективности и взаимосвязей между субъектами в эпоху киборгизации.
Энактивистская онтология также открывает новые подходы к проблеме сознания в искусственных системах. Вместо поиска «квалиа» в вычислительных системах, акцент смещается на анализ способов энактивистского взаимодействия искусственных агентов со средой и конституирования ими опыта.
Энактивистская онтология, развиваемая на основе синтеза генетической феноменологии и энактивизма, предлагает новый путь к натурализации сознания, избегая крайностей как редукционизма, так и дуализма. Иными словами, этот подход открывает новые горизонты для исследования соотношения между нейрофизиологическими процессами и феноменальным опытом, а также для осмысления трансформации человека в эпоху технологических инноваций. Далее, продолжая анализ философских импликаций энактивизма, мы рассмотрим его взаимосвязь с другими современными теориями познания.
Энактивизм и принцип свободной энергии: точки соприкосновения и различия.
В современной когнитивной науке энактивизм и принцип свободной энергии представляют собой два влиятельных, но, на первый взгляд, различных подхода к пониманию познания. В этом разделе мы проанализируем точки соприкосновения и различия между этими концепциями, а также рассмотрим возможности их синтеза.
Вопрос о совместимости энактивизма с принципом свободной энергии (ПСЭ), предложенным Карлом Фристоном, в последние годы поднимается достаточно часто [11]. ПСЭ утверждает, что биологические системы стремятся минимизировать свободную энергию, что эквивалентно максимизации доказательств для модели мира, которую система использует для своих отношений со средой.
На первый взгляд, ПСЭ может показаться несовместимым с энактивизмом из-за использования понятий «модель» и «репрезентация». Однако более глубокий анализ показывает, что между этими подходами есть существенные точки соприкосновения. Оба подхода подчеркивают активную роль организма в познании и его тесную связь со средой. ПСЭ, как и энактивизм, рассматривает границу между организмом и средой не как непроницаемый барьер, а как интерфейс для контакта и связи. «Генеративная модель» в ПСЭ может пониматься не как внутренняя репрезентация, а как структура зависимостей между организмом и средой. Оба подхода признают важность динамических систем и нелинейного взаимодействия в познании. ПСЭ также совместим с идеей энактивизма о самоорганизации и самодостаточности живых систем [12] [13]. Ключевые различия между подходами связаны с отношением к информационной теории (энактивисты часто отвергают её, в то время как ПСЭ активно использует), степенью формализации (ПСЭ предлагает более строгий математический аппарат) и акцентом на репрезентации (энактивизм стремится полностью отказаться от этого понятия, ПСЭ переосмысливает его).
Важно отметить, что ПСЭ не является жестким метафизическим утверждением, а, скорее, выступает как принцип моделирования систем, способных к познанию. В этом смысле он может рассматриваться как развитие и формализация некоторых интуиций энактивизма.
Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на более точное определение понятия функциональной автономии в рамках ПСЭ, изучение того, как возникают цели и намерения в самоорганизующихся системах, разработку динамических моделей познания, сочетающих идеи энактивизма и ПСЭ, а также исследование связей между ПСЭ и экологической психологией Гибсона.
Результаты синтез энактивистских идей и принципа свободной энергии могут сформулировать новые сферы для изучения взаимодействия между различными когнитивными системами в современной науке о познании. Понимание познания как активного процесса по созданию смысла через осуществление контакта со средой может помочь в разработке более естественных и адаптивных интерфейсов между человеком и машиной. При этом формальный аппарат ПСЭ может обеспечить математическую основу для моделирования таких контактов.
Концепция расширенного познания, которая рассматривает технологические устройства как продолжение когнитивной системы человека, также может быть переосмыслена в свете этого синтеза. В таком случае, с точки зрения ПСЭ, интеграция технологий в когнитивные процессы будет рассматриваться как расширение генеративной модели организма, позволяющее более эффективно минимизировать свободную энергию.
Этические вопросы, связанные с киборгизацией, такие как сохранение автономии и идентичности личности, могут быть рассмотрены через призму понятий самодостаточности и самоорганизации, что станет полезным в деле разработки этических принципов, которые станут учитывать динамическую сущность взаимного переплетения между человеком и технологией.
Так, несмотря на кажущиеся противоречия, энактивизм и принцип свободной энергии имеют значительный потенциал для взаимного обогащения. Их синтез может привести к дальнейшему развитию теории познания, которая станет способна адекватно описывать сложное взаимодействие между биологическими и технологическими системами в контексте современных процессов киборгизации и развития искусственного интеллекта. В этой связи, далее мы более подробно рассмотрим этические аспекты энактивистского подхода, и, в частности, обратимся к проблеме морального суждения.
Энактивизм и парадокс морального суждения.
Отметим, что проблема морального суждения занимает центральное место в современной этической теории. Энактивистский подход предлагает на нее новый взгляд, фокусируясь на парадоксальной основе нашего восприятия других как моральных субъектов. В этом разделе мы рассмотрим, как энактивизм помогает понять и разрешить этот парадокс.
Суть этого парадокса заключается в следующем: в повседневной жизни мы автоматически и без усилий воспринимаем других людей как моральных субъектов – существ, живущих богатой (в психологическом плане) жизнью, достойных коммуникации и имеющих авторитет в рамках своего опыта [14]. С другой стороны, мы также регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда такое восприятие других как полноценных моральных субъектов затруднено и требует сознательных усилий [15].
Этот парадокс приобретает новое измерение в контексте современных технологических и социальных инноваций, кардинально влияющих на межличностные коммуникации и на моральное суждение. С одной стороны, технологически обусловленное усиление человеческих возможностей может увеличивать наши способности к эмпатии и пониманию других. Например, уже упомянутые нейроинтерфейсы потенциально позволяют напрямую «считывать» эмоциональное состояние других людей. С другой стороны, чрезмерная технологизация в области коммуникации может создавать барьеры для непосредственного эмоционального контакта и затруднять восприятие других как целостных личностей.
Этот парадокс имеет важное значение с этической точки зрения. Способность быть воспринятым другими как моральный субъект является фундаментальной для обеспечения человеческого благополучия и процветания. Однако эта способность не в равной степени доступна всем людям. В частности, люди с аутизмом, особенно те, у кого затруднены вербальные способности, часто сталкиваются с тем, что их не воспринимают как полноценных субъектов, обладающих осмысленным опытом.
Для анализа этого парадокса полезно обратиться к нескольким теоретическим источникам [14]. Дэвид Юм подчеркивал непосредственность и автоматичность нашего восприятия других как чувствующих существ, видя в этом основу этической жизни. Айрис Мердок, напротив, акцентировала внимание на трудности правильного восприятия других и необходимости для этого прилагать на постоянной основе моральные усилия. Энактивизм позволяет объединить эти подходы, показывая, как непосредственное социальное восприятие опосредовано нашими телесными навыками, практиками и материальным окружением [15].
Важный вклад в понимание этической значимости восприятия других вносит литература по эпистемической несправедливости [16] [17]. Она позволяет провести различие между случайными ошибками восприятия и систематическими формами морального неприятия или осуждения, которые сами по себе основаны на невежестве как на категории общественной жизни. Можно выделить два основных типа такого морального отвержения: частное (неправильное восприятие конкретных эмоций или желаний) и категориальное (непризнание человека в целом как субъекта осмысленного опыта).
В контексте технологического дополнения человека возникают новые формы эпистемической несправедливости. Например, люди с имплантированными нейроинтерфейсами могут сталкиваться с предубеждениями и недоверием со стороны окружающих, которые воспринимают их как «ненастоящих» или «неполноценных» людей. С другой стороны, чрезмерная зависимость от технологий может приводить к тому, что мы начинаем воспринимать других людей преимущественно через призму их технологических модификаций, упуская из виду их уникальную человеческую сущность.
Энактивизм позволяет выделить два ключевых фактора, определяющих моральное суждение: нормы телесного взаимодействия и материально-технологическую среду. Многие аспекты межличностной коммуникации, такие как ритм и темп ее разнообразных аспектов, то есть, то, как протекает общение, имеют нормативный характер. Люди, не способные полноценно участвовать в этих телесных практиках, рискуют оказаться морально «невидимыми» и исключенными из «сферы» морального признания.
Кроме того, современные технологии существенно влияют на то, как мы выражаем себя и воспринимаем других. Они создают новые возможности для коммуникации, но также могут ограничивать некоторые элементы телесного самовыражения. Понимание того, как технологии формируют нашу моральную «видимость» и способность участвовать в совместном смыслообразовании, является важной задачей для дальнейших исследований.
Эти факторы приобретают новое значение в контексте слияния человеческого и технологического. Происходящие процессы способны как усиливать нашу способность к эмпатии и пониманию других, так и создавать новые барьеры для непосредственного эмоционального контакта. Важно разрабатывать такие технологии дополненного или расшеренного познания (augmented cognition), которые не только расширяют наши когнитивные способности, но и усиливают способность к эмпатическому восприятию других как целостных личностей. Это требует междисциплинарного подхода, объединяющего достижения нейронаук, философии сознания и этики технологий.
Выше мы постарались показать, что энактивистский подход в отношении проблемы морального суждения открывает новые направления для изучения и преодоления различных форм морального неприятия. Таким образом, этот подход приобретает особую актуальность в эпоху стремительного развития технологий киборгизации, поскольку помогает осмыслить этические вызовы, связанные с трансформацией человеческой природы и межличностных коммуникаций.
Современная когнитивная наука находится в поиске новых подходов к пониманию природы восприятия. Энактивизм является одной из наиболее перспективных альтернатив традиционным теориям. Поэтому далее мы рассмотрим, как энактивизм переосмысливает процесс визуального восприятия и какие новые горизонты это открывает для осмысления человеческого познания.
В отличие от традиционных теорий, рассматривающих восприятие как пассивный процесс создания внутренних репрезентаций внешнего мира, согласно энактивизму, субъект активно формирует свой перцептивный опыт посредством сенсомоторного взаимодействия с окружающей средой [3] [4]. Этот подход в последнее время становится все более значимым, поскольку современные исследования все чаще обращаются к взаимосвязи между познанием и телесностью. Внедрение нейроинтерфейсов и других устройств, расширяющих сенсорные возможности человека, требует серьезно переосмыслить природу перцептивного опыта и его связь с телесностью.
Согласно идеям Алве Ноэ, одного из ведущих представителей энактивизма, характер и содержание перцептивного опыта определяются имплицитным (или неявным) знанием воспринимающего субъекта о том, как сенсорная стимуляция изменяется в результате движения - как самого субъекта, так и объектов в окружающей среде. Такое неявное знание, которое Ноэ называет «сенсомоторными совпадениями» или «сенсомоторными контингенциями» (иными словами, связями/зависимостями), представляет собой не эксплицитное пропозициональное знание, а скорее практическое «знание-как». Эта концепция имеет важные импликации для разработки киборгианских технологий, направленных на расширение или модификацию сенсомоторных способностей человека [4].
Таким образом, в основе энактивистской теории лежит идея сенсомоторных зависимостей – тесной связи между движениями человека и тем, как меняются его ощущения [5]. Эти зависимости связывают реальные объекты и их свойства с паттернами изменений в сенсорной стимуляции. Например, знание о том, как изменяется угловой размер объекта при приближении или удалении, является частью такого неявного сенсомоторного знания. При рассмотрении процессов интеграции человека и технологий возникает вопрос, как внедрение искусственных сенсорных систем может изменить такие связи и, следовательно, характер перцептивного опыта.
Согласно энактивизму, внутренние репрезентации недостаточны для полного объяснения механизма восприятия. Согласно Ноэ, перцептивный опыт не только зависит от применения имплицитного знания о сенсомоторных закономерностях, но и конституируется этим применением. Таким образом, восприятие рассматривается как активный процесс исследования мира, в котором субъект использует свое неявное знание для извлечения информации из окружающей среды. Энактивизм по-новому осмысляет то, как мы переживаем субъективный опыт и воспринимаем качественные аспекты сознания. Однако остаются вопросы, насколько полно данный подход способен объяснить все аспекты субъективного перцептивного опыта, особенно такие, которые, по-видимому, не зависят напрямую от сенсомоторных паттернов. В этом смысле развитие технологий киборгизации, таких как, например, нейропротезирование или другие проекты, направленные на расширение сенсорных возможностей, дает возможности для эмпирических проверок и, следовательно, дальнейшего развития энактивистских теорий восприятия.
Таким образом, энактивистская теория восприятия предлагает новый и даже по-своему инновационный взгляд на природу перцептивного опыта, делая акцент на его активном, воплощенном и контекстуально-зависимом характере. Этот подход не только бросает вызов традиционным представлениям о восприятии, но и открывает новые горизонты в части исследования и понимания человеческого познания в целом. Итак, рассмотрев основные положения энактивизма, далее мы обратимся к его роли в решении ключевых проблем философии сознания.
Проблема натурализма в философии сознания.
Начнем с того, что натурализм в философии сознания стремится объяснить феномен сознания в рамках научной картины мира. Однако при этом подходе мы неизбежно сталкиваемся с рядом серьезных проблем. Поэтому нам необходимо рассмотреть, как энактивизм интерпретирует проблему натурализма и какие возможности для философии сознания открываются в этом ключе.
Центральной проблемой философии сознания, очевидно, является вопрос о месте сознания в природе. Однако при такой постановке вопроса мы уже неявно предполагаем определенное понимание природы. Различные эпистемологические подходы, определяющие познание, ведут к различным метафизическим следствиям относительно устройства реальности [6]. В этой связи можно выделить две основные эпистемологические позиции:
- Качественный интернализм, ведущий к «научному образу мира» (по выражению Селларса). Эта позиция, восходящая к Демокриту и Галилею, проводит различие между субъективными феноменальными качествами и объективной физико-математической реальностью.
- Качественный экстернализм, утверждающий, что в восприятии мы непосредственно контактируем с качественно насыщенной внешней реальностью. Такая позиция ведет к «так называемому наивному натурализму».
Первый подход лежит в основе большинства современных натуралистических подходов в философии сознания, и, собственно, он и порождает «трудную проблему сознания» (Чалмерс). Вторая позиция развивается в экологической теории восприятия Гибсона, сенсомоторных теориях и некоторых вариантах натурализации феноменологии.
Ключевой тезис трансцендентальной феноменологии Гуссерля состоит в том, что эпистемология должна предшествовать метафизике. Анализ структуры опыта в рамках феноменологической редукции (эпохе) является необходимым условием построения метафизики [7].
В статической феноменологии конституирования Гуссерль разрабатывает анализ восприятия, допускающий как чувственное содержание сознания, так и чувственные качества конституированных объектов. Интенциональность сознания конституирует объект через «одушевление» ощущений.
Однако этот подход вызывает определенное беспокойство: не ведет ли он к субъективному идеализму, несмотря на декларируемую метафизическую нейтральность [8]? Гуссерль осознавал эту проблему и указывал, что статический анализ является предварительным и должен быть дополнен генетическим исследованием.
В генетической феноменологии Гуссерль исследует временной генезис опыта. Ключевая идея состоит в том, что конституирование объектов опыта является одновременно конституированием самой субъективности. Субъект и объект со-конституируются во временном процессе опыта.
Эта идея имеет глубокие параллели с энактивистским подходом Варелы, Томпсона и Рош. Центральное понятие их подхода – «совместное возникновение» (dependent co-arising) субъекта и объекта в процессе познавательной деятельности. Эта идея восходит к буддийской философии мадхьямаки.
Анализируя феномен цветового зрения, Варела и Томпсон разрабатывают подход, альтернативный как цветовому субъективизму, так и объективизму. Они предлагают реляционистскую концепцию, согласно которой субъект и объект не предзаданы, а конституируются в процессе опыта.
Синтез генетической феноменологии и энактивизма позволяет развить «энактивистскую онтологию» - исследование эмпирической реальности как результат взаимного конституирования субъекта и объекта [9]. При этом вопрос об «окончательной реальности» остается открытым [10].
Энактивистская онтология предлагает альтернативный подход как научному реализму, так и наивному эмпиризму в философии сознания. Она позволяет исследовать корреляции между нейрофизиологическими состояниями и феноменологическим опытом, не редуцируя одно к другому.
Многообещающим направлением развития этого подхода является нейрофеноменология Варелы. Она предлагает методологию исследования соотношения данных от первого и третьего лица, избегая при этом проблемы редукции, характерной для традиционной философии сознания.
Энактивистская онтология по-новому рассматривает связь между познающим и познаваемым, что открывает новые перспективы для современной философии сознания. Технологические расширения тела и когнитивных способностей человека изменяют структуру опыта и конституирования реальности. Такой подход позволяет преодолеть дихотомию «естественное-искусственное» в анализе киборгизации. здесь киберулучшения могут рассматриваться не как внешние дополнения, а как неотъемлемые компоненты энактивистской системы «организм-среда».
Все это открывает новый потенциал для осмысления моральных последствий слияния человека и технологий. Вместо традиционного противопоставления «естественного» и «искусственного» в человеке, акцент смещается на анализ изменения способов конституирования опыта и реальности.
Важным направлением исследований становится феноменология киборгизированного опыта - как изменяется структура восприятия, телесности, самосознания при интеграции технологических модификаций. Это позволяет выявить новые измерения субъективности и взаимосвязей между субъектами в эпоху киборгизации.
Энактивистская онтология также открывает новые подходы к проблеме сознания в искусственных системах. Вместо поиска «квалиа» в вычислительных системах, акцент смещается на анализ способов энактивистского взаимодействия искусственных агентов со средой и конституирования ими опыта.
Энактивистская онтология, развиваемая на основе синтеза генетической феноменологии и энактивизма, предлагает новый путь к натурализации сознания, избегая крайностей как редукционизма, так и дуализма. Иными словами, этот подход открывает новые горизонты для исследования соотношения между нейрофизиологическими процессами и феноменальным опытом, а также для осмысления трансформации человека в эпоху технологических инноваций. Далее, продолжая анализ философских импликаций энактивизма, мы рассмотрим его взаимосвязь с другими современными теориями познания.
Энактивизм и принцип свободной энергии: точки соприкосновения и различия.
В современной когнитивной науке энактивизм и принцип свободной энергии представляют собой два влиятельных, но, на первый взгляд, различных подхода к пониманию познания. В этом разделе мы проанализируем точки соприкосновения и различия между этими концепциями, а также рассмотрим возможности их синтеза.
Вопрос о совместимости энактивизма с принципом свободной энергии (ПСЭ), предложенным Карлом Фристоном, в последние годы поднимается достаточно часто [11]. ПСЭ утверждает, что биологические системы стремятся минимизировать свободную энергию, что эквивалентно максимизации доказательств для модели мира, которую система использует для своих отношений со средой.
На первый взгляд, ПСЭ может показаться несовместимым с энактивизмом из-за использования понятий «модель» и «репрезентация». Однако более глубокий анализ показывает, что между этими подходами есть существенные точки соприкосновения. Оба подхода подчеркивают активную роль организма в познании и его тесную связь со средой. ПСЭ, как и энактивизм, рассматривает границу между организмом и средой не как непроницаемый барьер, а как интерфейс для контакта и связи. «Генеративная модель» в ПСЭ может пониматься не как внутренняя репрезентация, а как структура зависимостей между организмом и средой. Оба подхода признают важность динамических систем и нелинейного взаимодействия в познании. ПСЭ также совместим с идеей энактивизма о самоорганизации и самодостаточности живых систем [12] [13]. Ключевые различия между подходами связаны с отношением к информационной теории (энактивисты часто отвергают её, в то время как ПСЭ активно использует), степенью формализации (ПСЭ предлагает более строгий математический аппарат) и акцентом на репрезентации (энактивизм стремится полностью отказаться от этого понятия, ПСЭ переосмысливает его).
Важно отметить, что ПСЭ не является жестким метафизическим утверждением, а, скорее, выступает как принцип моделирования систем, способных к познанию. В этом смысле он может рассматриваться как развитие и формализация некоторых интуиций энактивизма.
Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на более точное определение понятия функциональной автономии в рамках ПСЭ, изучение того, как возникают цели и намерения в самоорганизующихся системах, разработку динамических моделей познания, сочетающих идеи энактивизма и ПСЭ, а также исследование связей между ПСЭ и экологической психологией Гибсона.
Результаты синтез энактивистских идей и принципа свободной энергии могут сформулировать новые сферы для изучения взаимодействия между различными когнитивными системами в современной науке о познании. Понимание познания как активного процесса по созданию смысла через осуществление контакта со средой может помочь в разработке более естественных и адаптивных интерфейсов между человеком и машиной. При этом формальный аппарат ПСЭ может обеспечить математическую основу для моделирования таких контактов.
Концепция расширенного познания, которая рассматривает технологические устройства как продолжение когнитивной системы человека, также может быть переосмыслена в свете этого синтеза. В таком случае, с точки зрения ПСЭ, интеграция технологий в когнитивные процессы будет рассматриваться как расширение генеративной модели организма, позволяющее более эффективно минимизировать свободную энергию.
Этические вопросы, связанные с киборгизацией, такие как сохранение автономии и идентичности личности, могут быть рассмотрены через призму понятий самодостаточности и самоорганизации, что станет полезным в деле разработки этических принципов, которые станут учитывать динамическую сущность взаимного переплетения между человеком и технологией.
Так, несмотря на кажущиеся противоречия, энактивизм и принцип свободной энергии имеют значительный потенциал для взаимного обогащения. Их синтез может привести к дальнейшему развитию теории познания, которая станет способна адекватно описывать сложное взаимодействие между биологическими и технологическими системами в контексте современных процессов киборгизации и развития искусственного интеллекта. В этой связи, далее мы более подробно рассмотрим этические аспекты энактивистского подхода, и, в частности, обратимся к проблеме морального суждения.
Энактивизм и парадокс морального суждения.
Отметим, что проблема морального суждения занимает центральное место в современной этической теории. Энактивистский подход предлагает на нее новый взгляд, фокусируясь на парадоксальной основе нашего восприятия других как моральных субъектов. В этом разделе мы рассмотрим, как энактивизм помогает понять и разрешить этот парадокс.
Суть этого парадокса заключается в следующем: в повседневной жизни мы автоматически и без усилий воспринимаем других людей как моральных субъектов – существ, живущих богатой (в психологическом плане) жизнью, достойных коммуникации и имеющих авторитет в рамках своего опыта [14]. С другой стороны, мы также регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда такое восприятие других как полноценных моральных субъектов затруднено и требует сознательных усилий [15].
Этот парадокс приобретает новое измерение в контексте современных технологических и социальных инноваций, кардинально влияющих на межличностные коммуникации и на моральное суждение. С одной стороны, технологически обусловленное усиление человеческих возможностей может увеличивать наши способности к эмпатии и пониманию других. Например, уже упомянутые нейроинтерфейсы потенциально позволяют напрямую «считывать» эмоциональное состояние других людей. С другой стороны, чрезмерная технологизация в области коммуникации может создавать барьеры для непосредственного эмоционального контакта и затруднять восприятие других как целостных личностей.
Этот парадокс имеет важное значение с этической точки зрения. Способность быть воспринятым другими как моральный субъект является фундаментальной для обеспечения человеческого благополучия и процветания. Однако эта способность не в равной степени доступна всем людям. В частности, люди с аутизмом, особенно те, у кого затруднены вербальные способности, часто сталкиваются с тем, что их не воспринимают как полноценных субъектов, обладающих осмысленным опытом.
Для анализа этого парадокса полезно обратиться к нескольким теоретическим источникам [14]. Дэвид Юм подчеркивал непосредственность и автоматичность нашего восприятия других как чувствующих существ, видя в этом основу этической жизни. Айрис Мердок, напротив, акцентировала внимание на трудности правильного восприятия других и необходимости для этого прилагать на постоянной основе моральные усилия. Энактивизм позволяет объединить эти подходы, показывая, как непосредственное социальное восприятие опосредовано нашими телесными навыками, практиками и материальным окружением [15].
Важный вклад в понимание этической значимости восприятия других вносит литература по эпистемической несправедливости [16] [17]. Она позволяет провести различие между случайными ошибками восприятия и систематическими формами морального неприятия или осуждения, которые сами по себе основаны на невежестве как на категории общественной жизни. Можно выделить два основных типа такого морального отвержения: частное (неправильное восприятие конкретных эмоций или желаний) и категориальное (непризнание человека в целом как субъекта осмысленного опыта).
В контексте технологического дополнения человека возникают новые формы эпистемической несправедливости. Например, люди с имплантированными нейроинтерфейсами могут сталкиваться с предубеждениями и недоверием со стороны окружающих, которые воспринимают их как «ненастоящих» или «неполноценных» людей. С другой стороны, чрезмерная зависимость от технологий может приводить к тому, что мы начинаем воспринимать других людей преимущественно через призму их технологических модификаций, упуская из виду их уникальную человеческую сущность.
Энактивизм позволяет выделить два ключевых фактора, определяющих моральное суждение: нормы телесного взаимодействия и материально-технологическую среду. Многие аспекты межличностной коммуникации, такие как ритм и темп ее разнообразных аспектов, то есть, то, как протекает общение, имеют нормативный характер. Люди, не способные полноценно участвовать в этих телесных практиках, рискуют оказаться морально «невидимыми» и исключенными из «сферы» морального признания.
Кроме того, современные технологии существенно влияют на то, как мы выражаем себя и воспринимаем других. Они создают новые возможности для коммуникации, но также могут ограничивать некоторые элементы телесного самовыражения. Понимание того, как технологии формируют нашу моральную «видимость» и способность участвовать в совместном смыслообразовании, является важной задачей для дальнейших исследований.
Эти факторы приобретают новое значение в контексте слияния человеческого и технологического. Происходящие процессы способны как усиливать нашу способность к эмпатии и пониманию других, так и создавать новые барьеры для непосредственного эмоционального контакта. Важно разрабатывать такие технологии дополненного или расшеренного познания (augmented cognition), которые не только расширяют наши когнитивные способности, но и усиливают способность к эмпатическому восприятию других как целостных личностей. Это требует междисциплинарного подхода, объединяющего достижения нейронаук, философии сознания и этики технологий.
Выше мы постарались показать, что энактивистский подход в отношении проблемы морального суждения открывает новые направления для изучения и преодоления различных форм морального неприятия. Таким образом, этот подход приобретает особую актуальность в эпоху стремительного развития технологий киборгизации, поскольку помогает осмыслить этические вызовы, связанные с трансформацией человеческой природы и межличностных коммуникаций.
Энактивистский подход к формированию сознания, идеологическому угнетению и киборгизации.
Энактивизм позволяет по-своему взглянуть на процессы формирования сознания и социального взаимодействия. Ниже мы рассмотрим, как данный подход может быть применен к анализу проблем идеологического угнетения и киборгизации, и какие в связи с этим могут открыться новые горизонты в исследовании социальных процессов в наше время, когда все категории общественной жизни претерпевают изменения.
Ключевым понятием здесь выступает «формирование сознания» (mind shaping) - процесс, посредством которого социокультурная среда формирует когнитивные способности, шаблоны поведения и внимания индивидов [18]. С точки зрения энактивизма, этот процесс носит воплощенный характер: он затрагивает не только мозг, но и все тело человека, включая сенсомоторные паттерны, эмоциональные реакции, привычки восприятия и действия.
Процессы киборгизации создают новые аспекты формирования сознания. Мы уже упоминали, что со временем различные технологические импланты и нейроинтерфейсы становятся неотъемлемой частью телесности и когнитивных процессов, и это приводит к возникновению гибридных форм воплощенного познания. В результате этого возникают новые вопросы о человеческой сущности и границах между биологическим и технологическим.
Следует отметить, что формирование сознания представляет собой активный процесс. Индивид активно участвует в конструировании смыслов и значений, контактируя с окружающей средой. Такое взаимодействие носит нормативный характер: оно регулируется социальными нормами и ценностями, которые индивид усваивает в процессе инкультурации. В случае киборгизации эти нормы и ценности могут включать в себя отношение к технологическим модификациям тела и сознания, что создает новое поле для потенциального идеологического угнетения.
Центральную роль в этом процессе играют привычки - устойчивые паттерны поведения и внимания, формирующиеся в результате повторяющегося опыта [19]. Привычки позволяют индивиду эффективно действовать в социальном мире, но они же могут стать проводниками идеологического угнетения, если становятся чрезмерно ригидными и неосознаваемыми [20]. Киборгизация предполагает формирование новых типов привычек, связанных с использованием технологических улучшений тела и сознания.
Если такую категорию как идеологическое угнетение рассматривать через призму энактивизма, то в этом случае оно предстает как тонкий и неочевидный, и при этом достаточно злокачественный процесс, в котором социальные влияния незаметно проникают в самую суть нашего бытия, ограничивая пластичность индивидуального сознания. Это явление можно уподобить невидимым нитям, опутывающим разум и тело, которые постепенно лишают нас способности к критическому мышлению и самостоятельному формированию жизненных установок.
В контексте киборгизации эта проблема приобретает новое измерение. Технологические модификации, становясь неотъемлемой частью нашего телесного опыта, могут еще глубже укоренять идеологические конструкты в нашем сознании, делая их практически неотличимыми от наших собственных мыслей и желаний.
Однако энактивизм не рисует нам картину безысходности. Напротив, он ставит во главу угла удивительную способность человеческого духа к сопротивлению и трансформации. Подобно тому, как вода точит камень, постоянное усилие критического мышления и активного смыслообразования может противостоять даже самым мощным идеологическим течениям.
Особую роль в этом процессе играют альтернативные сообщества и практики, которые можно сравнить с оазисами свободной мысли в пустыне конформизма. Эти пространства становятся питательной средой для формирования новых способов интерпретации реальности и развития навыков критического мышления. Они подобны лабораториям человеческого духа, где каждый может экспериментировать с различными формами сознания и бытия.
Энактивистский подход раскрывает перед нами захватывающую диалектику индивидуального и социального в процессах формирования сознания. Он показывает, что, несмотря на мощное влияние социальных структур и технологических изменений, человек сохраняет удивительную способность к агентности – способности быть активным творцом своей судьбы и окружающего мира.
Этот подход открывает новые горизонты для исследования механизмов социальных изменений в эпоху размывания границ человеческого. Он призывает нас обратить внимание на тонкую взаимосвязь между индивидуальными привычками и социальными институтами, рассматривая их как две стороны одной медали. При этом особое значение придается роли эмоций и телесного опыта – тем аспектам нашего существования, которые часто игнорируются в традиционных подходах к социальным наукам.
В контексте слияния человека с технологиями энактивистский подход приобретает особую актуальность. Он позволяет увидеть, как размывание границ между биологическим и технологическим влияет на наше самовосприятие и социальное взаимодействие. Это открывает новые возможности для теоретического осмысления и практического преодоления различных форм социального неравенства и угнетения.
Таким образом, энактивистский подход предстает перед нами как мощный инструмент для понимания сложных взаимосвязей между индивидом, обществом и технологиями. Он позволяет преодолеть ограничения как индивидуалистических, так и структуралистских объяснений, предлагая более глубокое и нюансированное понимание человеческого бытия в эпоху технологических трансформаций.
В заключение необходимо подчеркнуть, что энактивизм не только открывает новые горизонты для теоретических исследований, но и предлагает практические пути для личностного и социального развития. Он подтверждает нашу способность быть активным творцом своей реальности даже перед лицом мощных социальных и технологических сил. В этом смысле, энактивистский подход можно рассматривать как философию надежды и эмансипации, призывающую к постоянному переосмыслению и трансформации нашего бытия в мире.
От человека к киборгу: этические вопросы энактивистского подхода.
Далее мы рассмотрим собственно этические аспекты, возникающие на фоне развития технологий человеческой киборгизации через призму энактивизма [21]. Здесь мы должны отметить существенное противопоставление традиционному представлению о познании как об обработке информации изолированным мозгом. С точки зрения этики, такой подход основывается на фундаментальной укорененности познающего субъекта в мире и его неразрывной связи с окружающей средой. В условиях человеческого киберулучшения возникает проблема того, как технологические расширения тела могут повлиять на процессы познания и формирование опыта.
Одним из ключевых понятий энактивизма является автопоэзис - способность живых систем к самовоспроизводству и поддержанию собственной организации. Это понятие было предложено чилийскими биологами У. Матураной и Ф. Варелой как характеристика минимальной единицы жизни [22]. С этической точки зрения, концепция автопоэзиса акцентирует внимание на внутренней ценности и автономии живых существ, их способности к самоорганизации и поддержанию собственного существования. Чем больше развиваются киборгианские технологии, тем более актуальной становится проблема того, как технологические вмешательства могут повлиять на автопоэтические процессы организма и не нарушат ли они его фундаментальную автономию.
Энактивистский подход уделяет особое внимание роли телесного опыта и сенсомоторного взаимодействия в формировании познания [23]. Это имеет важные этические следствия, поскольку акцент здесь ставится на значимости воплощенного опыта и практических навыков, а не только абстрактного мышления. Такой взгляд может способствовать более целостному пониманию человеческой природы и ценности различных форм знания. Киборгизация актуализирует проблему того, как технологические улучшение сенсорных и моторных возможностей человека могут изменить его опыт и связи с окружающей средой.
Еще одним важной особенностью энактивизма является представление о познании как о динамическом процессе, возникающем во взаимоотношениях между организмом и средой. С этической точки зрения, это подтверждает реляционную природу познания и моральной субъектности. Нравственные суждения и действия рассматриваются не как результат абстрактных размышлений изолированного разума, а как эмерджентные свойства, возникающие в конкретных ситуациях соприкосновения с внешним миром. Через призму концепта киборга это может означать, что технологически обусловленное усиление когнитивных способностей способно оказать влияние на процессы принятия этических решений и формирования моральных суждений.
В фокусе энактивистского подхода находится значение социального взаимодействия в формировании познания. Здесь также присутствуют значимые этические импликации, поскольку во главу угла ставится фундаментальная взаимозависимость людей и значимость межличностных отношений для развития нравственных способностей. И в этом смысле технологические дополнения коммуникативных возможностей человека могут изменить характер коммуникации с внешним окружением и повлиять на формирование моральных норм и ценностей.
Критики энактивизма указывают на сложность эмпирической проверки некоторых его положений и опасность чрезмерного редукционизма. Сторонники его, в свою очередь, утверждают, что этот подход позволяет преодолеть ограниченность традиционных моделей познания, предлагая более целостный взгляд на симбиоз человека и технологий. Они стремятся найти золотую середину между технофобией и слепым техно-оптимизмом, открывая новые горизонты для понимания нашего места в технологизированном мире. Однако такой путь не лишен терний. Философия киборгизации, рассматриваемая через призму энактивизма, поднимает ряд фундаментальных этических вопросов.
Одним из ключевых вопросов в контексте киборгизации является проблема границ человеческой идентичности и автономии. Наши познание и опыт неразрывно связаны с телесностью, и технологические модификации тела могут существенно повлиять на самость. Существует риск того, что киборгизация приведет к размыванию границ между человеком и машиной, что повлечет за собой серьезные этические последствия. Также большое значение в контексте киборгианских процессов имеет вопрос о справедливости и равенстве. Широкая доступность технологий усиления когнитивных и физических способностей может углубить существующее неравенство или создать новые формы дискриминации. Обеспечение равного доступа к технологиям улучшения человека и предотвращение появления «кибер-элит» становится важной общественной задачей.
Энактивистский подход также заставляет задуматься о влиянии киборгизации на такую категорию, как экология. Наше познание и опыт формируются во взаимодействии с окружающей средой. Технологические модификации человеческих возможностей могут существенно изменить наше отношение к окружающему миру и другим живым существам. Существует риск, что эти изменения приведут к еще большему отчуждению человека от естественной среды. Киборгизация способна трансформировать наше восприятие природы и наше место в ней. И здесь становится крайне важным для человека сохранить связь с естественным миром даже при расширении технологических возможностей.
Особое внимание следует уделить проблеме сохранения человеческого достоинства и ценности «несовершенства». Энактивизм признает важность телесного опыта и уязвимости как неотъемлемых аспектов человеческого существования. Возникает опасение, что стремление к технологическому совершенствованию может привести к обесцениванию этих важных характеристик человеческого опыта, связанных с преодолением ограничений и уязвимостью. Энактивистская перспектива предлагает нам новую оптику для рассмотрения сущности познания и нравственности, подчеркивая их тесную связь с телесным опытом, социальными контактами и отношениями с окружающей средой. Это открывает новые возможности для размышлений о киборгизации с точки зрения этики и способна внести вклад в обеспечение более целостного понимания того, как происходит взаимодействие человека и технологий.
Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на более детальное изучение этических импликаций энактивизма в контексте слияния человека и машины. Особого внимания заслуживают вопросы того, как влияет киборгизация на содержание таких понятий, как моральная ответственность, общественные и культурные ценности, а также на роль эмоций в нравственных суждениях. Кроме того, важной задачей является разработка практических приложений энактивистского подхода в сфере этического регулирования технологий улучшения человека и развития нравственных способностей в условиях все более тесной интеграции человека и машины.
Таким образом, энактивистское осмысление этических аспектов киборгизации формирует плодотворную основу для осмысления сложных вызовов, связанных с киборгианским улучшением человека. В результате мы получаем возможность рассматривать эти вопросы таким образом, чтобы стремиться к целостному пониманию человеческого опыта, избегая как технофобии, так и некритического техно-оптимизма. Данный подход может способствовать формированию более взвешенной и этически обоснованной стратегии развития технологий киборгизации.
Энактивизм как философское направление: утопический и научный подходы.
К настоящему времени энактивизм эволюционировал в масштабный философский проект. И далее мы рассмотрим две траектории развития энактивизма - утопическую и научную, и проанализируем их возможности для создания альтернативной онтологии [24].
Напомним, что ключевые идеи энактивизма включают в себя изучение опыта от первого лица, понимание познания как сенсомоторной координации, акцент на воплощенности познания и интеграцию феноменологических и прагматистских традиций. Энактивизм предлагает по-своему альтернативный взгляд на то, как организмы формируют свою когнитивную область и «энактивно» создают мир своего опыта.
Однако по мере развития энактивистского движения возникает необходимость критической рефлексии целей, методов и достижений этого подхода. В этой связи ниже мы рассмотрим энактивизм через призму двух различных, но взаимосвязанных подходов - утопического и научного.
Утопический энактивизм фокусируется на построении целостной философской системы, интегрирующей различные научные дисциплины и философские подходы в единую онтологию [25].
Данное направление нацелено на формирование альтернативного «энактивистского мировоззрения», противостоящего механистическим и вычислительным моделям. Утопический проект включает в себя концептуальный анализ, междисциплинарный синтез и теоретическое распространением базовых принципов энактивизма на новые области - от биологии до социальных структур.
Научный энактивизм, напротив, ориентирован на конкретные эмпирические исследования и практическое применение отдельных энактивистских идей в когнитивной науке и психологии [26]. Этот подход более прагматичен и эклектичен, он не стремится к полному принятию всей энактивистской философии, а использует отдельные продуктивные концепции для решения конкретных научных задач.
Разграничение утопического и научного энактивизма позволяет прояснить различные цели и методы работы в рамках этого подхода. Утопический проект важен для развития целостного философского видения, но он рискует превратиться в самодостаточное теоретизирование, оторванное от эмпирической науки. Научный энактивизм обеспечивает связь с практикой, но может утратить революционный потенциал изначальных энактивистских идей. Важно отметить, что утопический и научный подходы в энактивизме не являются взаимоисключающими, а скорее взаимодополняющими. Утопическое видение обеспечивает долгосрочные цели и философскую глубину, в то время как научный подход предоставляет эмпирическую основу и практическую применимость. Достижение баланса между этими подходами является ключевым для полноценного развития энактивизма как философского подхода, способного адекватно осмыслить сложные процессы соприкосновения человека и технологий в контексте киборгизации.
Мы полагаем, что продуктивное развитие энактивизма требует поиска баланса между этими подходами. Необходимо сохранять амбициозность философского проекта, при этом ориентируясь на конкретные научные проблемы и возможности практического применения. Важно избегать как беспочвенных теоретических спекуляций, так и некритичного использования отдельных энактивистских концепций без понимания их философских оснований.
Как мы показали ранее, энактивистский фокус позволяет осмыслить связь человека и технологий в контексте происходящих изменений в общественной жизни, предлагая более целостное понимание этих процессов с учетом телесного опыта, социальных контактов и экологических связей. Энактивизм подразумевает активную роль организма в формировании своего опыта и когнитивной реальности. Это позволяет рассматривать киборгизацию не просто как «дополнение» человеческого тела технологическими устройствами, а как процесс коэволюции биологического и технологического, ведущий к возникновению качественно новых форм воплощенного познания и опыта.
Такой подход также позволяет по-новому взглянуть на проблему «расширенного сознания» через призму фигуры киборга. Если познание неразрывно связано с телесным опытом и сенсомоторными схемами, то интеграция технологических устройств в тело человека может вести к фундаментальным изменениям в структуре сознания и восприятия реальности. Это открывает как новые возможности для развития человеческого потенциала, так и потенциальные риски утраты аутентичного человеческого опыта.
Важной составляющей энактивистского осмысления киборгизации является также акцент на социальном измерении этого процесса. Технологическое усиление и расширение человеческих возможностей неизбежно трансформирует социальное взаимодействие и структуры. Энактивизм уделяет особое внимание тому, что индивидуальный опыт всегда формируется в контексте межличностых отношений. Соответственно, этические последствия киборгизации должны рассматриваться не только на индивидуальном, но и на социальном уровне.
Основные проблемы, стоящие перед энактивизмом на современном этапе, включают:
Мы полагаем, что будущее энактивизма связано не столько с утверждением его как целостной альтернативной парадигмы, сколько с продуктивным сопряжением энактивистских идей с различными подходами в когнитивной науке, биологии, психологии и других областях. Энактивизм способен существенно обогатить многогранное и целостное понимание познания и сознания, особенно в свете технологически обусловленных изменений человеческой природы.
В области философии киборгизации энактивистский взгляд может способствовать преодолению дуалистических представлений о связи человека и технологий, акцентируя внимание на их глубокой интеграции и коэволюции, через призму осмысления таких феноменов, как расширенное сознание, технологически опосредованное восприятие, гибридные формы телесности.
Одновременно энактивизм может предложить новый взгляд на этические проблемы киборгизации, выходящий за рамки традиционных дихотомий «естественное/искусственное» или «человеческое/нечеловеческое». Вместо этого фокус смещается на вопросы, как различные формы киберулучшений влияют на способность человека к автономному действию, формированию аутентичного опыта и участию в межличностных отношениях.
Чтобы энактивизм мог развиваться как полноценное философское направление, необходимо постоянно подвергать его критическому осмыслению и обсуждать в широком научном сообществе. Баланс между утопическим и научным подходами, между теоретической полнотой и эмпирической применимостью может сделать энактивизм важным ресурсом для развития более холистического и этически ответственного подхода к отношениям между человеком и технологиями в контексте современных процессов киборгизации и изменения человеческой природы под влиянием технологического прогресса.
Заключение.
Как мы показали, энактивистская концепция трансформирует понимание познавательной деятельности, указывая на их неразрывную связь с телесными практиками и общественными связями [4]. Этот подход позволяет преодолеть ограничения традиционных натуралистических концепций сознания, предлагая альтернативную онтологию, основанную на идее взаимного конституирования субъекта и объекта.
Синтез энактивизма и принципа свободной энергии позволяет рассматривать когнитивные процессы в эпоху слияния человека и машины в контексте проблемы морального суждения, и по-новому взглянуть на этические вызовы, связанные с технологическим усилением человеческих возможностей. Подход к формированию сознания и идеологическому угнетению с позиций энактивизма предлагает более точное понимание динамики отношений между индивидом, обществом и технологиями. Анализ этических вызовов технологического расширения человека в рамках этой парадигмы способствует формированию более целостного и этически ответственного подхода к развитию технологий улучшения человека.
Энактивизм обладает значительным потенциалом для развития в качестве нового философского подхода, способного интегрировать достижения различных научных дисциплин и философских традиций. Проведенное исследование подтверждает гипотезу о возможности применения энактивистского подхода для формирования новой философии в контексте технологической трансформации человека. Однако реализация этого потенциала требует дальнейшей разработки и эмпирической проверки энактивистских концепций.
Дальнейшие исследования могут быть направлены на создание более детальных моделей взаимодействия биологических и технологических систем, эмпирическое исследование трансформаций в структуре опыта при различных формах технологического усиления человеческих способностей, разработку энактивистской этики киборгизации и объединение энактивистских концепций с другими подходами в когнитивной науке и философии техники [27] [28]. Это позволит создать более объемную картину трансформации человеческой природы, и этических последствий, обусловленных происходящими изменениями.
Энактивизм позволяет по-своему взглянуть на процессы формирования сознания и социального взаимодействия. Ниже мы рассмотрим, как данный подход может быть применен к анализу проблем идеологического угнетения и киборгизации, и какие в связи с этим могут открыться новые горизонты в исследовании социальных процессов в наше время, когда все категории общественной жизни претерпевают изменения.
Ключевым понятием здесь выступает «формирование сознания» (mind shaping) - процесс, посредством которого социокультурная среда формирует когнитивные способности, шаблоны поведения и внимания индивидов [18]. С точки зрения энактивизма, этот процесс носит воплощенный характер: он затрагивает не только мозг, но и все тело человека, включая сенсомоторные паттерны, эмоциональные реакции, привычки восприятия и действия.
Процессы киборгизации создают новые аспекты формирования сознания. Мы уже упоминали, что со временем различные технологические импланты и нейроинтерфейсы становятся неотъемлемой частью телесности и когнитивных процессов, и это приводит к возникновению гибридных форм воплощенного познания. В результате этого возникают новые вопросы о человеческой сущности и границах между биологическим и технологическим.
Следует отметить, что формирование сознания представляет собой активный процесс. Индивид активно участвует в конструировании смыслов и значений, контактируя с окружающей средой. Такое взаимодействие носит нормативный характер: оно регулируется социальными нормами и ценностями, которые индивид усваивает в процессе инкультурации. В случае киборгизации эти нормы и ценности могут включать в себя отношение к технологическим модификациям тела и сознания, что создает новое поле для потенциального идеологического угнетения.
Центральную роль в этом процессе играют привычки - устойчивые паттерны поведения и внимания, формирующиеся в результате повторяющегося опыта [19]. Привычки позволяют индивиду эффективно действовать в социальном мире, но они же могут стать проводниками идеологического угнетения, если становятся чрезмерно ригидными и неосознаваемыми [20]. Киборгизация предполагает формирование новых типов привычек, связанных с использованием технологических улучшений тела и сознания.
Если такую категорию как идеологическое угнетение рассматривать через призму энактивизма, то в этом случае оно предстает как тонкий и неочевидный, и при этом достаточно злокачественный процесс, в котором социальные влияния незаметно проникают в самую суть нашего бытия, ограничивая пластичность индивидуального сознания. Это явление можно уподобить невидимым нитям, опутывающим разум и тело, которые постепенно лишают нас способности к критическому мышлению и самостоятельному формированию жизненных установок.
В контексте киборгизации эта проблема приобретает новое измерение. Технологические модификации, становясь неотъемлемой частью нашего телесного опыта, могут еще глубже укоренять идеологические конструкты в нашем сознании, делая их практически неотличимыми от наших собственных мыслей и желаний.
Однако энактивизм не рисует нам картину безысходности. Напротив, он ставит во главу угла удивительную способность человеческого духа к сопротивлению и трансформации. Подобно тому, как вода точит камень, постоянное усилие критического мышления и активного смыслообразования может противостоять даже самым мощным идеологическим течениям.
Особую роль в этом процессе играют альтернативные сообщества и практики, которые можно сравнить с оазисами свободной мысли в пустыне конформизма. Эти пространства становятся питательной средой для формирования новых способов интерпретации реальности и развития навыков критического мышления. Они подобны лабораториям человеческого духа, где каждый может экспериментировать с различными формами сознания и бытия.
Энактивистский подход раскрывает перед нами захватывающую диалектику индивидуального и социального в процессах формирования сознания. Он показывает, что, несмотря на мощное влияние социальных структур и технологических изменений, человек сохраняет удивительную способность к агентности – способности быть активным творцом своей судьбы и окружающего мира.
Этот подход открывает новые горизонты для исследования механизмов социальных изменений в эпоху размывания границ человеческого. Он призывает нас обратить внимание на тонкую взаимосвязь между индивидуальными привычками и социальными институтами, рассматривая их как две стороны одной медали. При этом особое значение придается роли эмоций и телесного опыта – тем аспектам нашего существования, которые часто игнорируются в традиционных подходах к социальным наукам.
В контексте слияния человека с технологиями энактивистский подход приобретает особую актуальность. Он позволяет увидеть, как размывание границ между биологическим и технологическим влияет на наше самовосприятие и социальное взаимодействие. Это открывает новые возможности для теоретического осмысления и практического преодоления различных форм социального неравенства и угнетения.
Таким образом, энактивистский подход предстает перед нами как мощный инструмент для понимания сложных взаимосвязей между индивидом, обществом и технологиями. Он позволяет преодолеть ограничения как индивидуалистических, так и структуралистских объяснений, предлагая более глубокое и нюансированное понимание человеческого бытия в эпоху технологических трансформаций.
В заключение необходимо подчеркнуть, что энактивизм не только открывает новые горизонты для теоретических исследований, но и предлагает практические пути для личностного и социального развития. Он подтверждает нашу способность быть активным творцом своей реальности даже перед лицом мощных социальных и технологических сил. В этом смысле, энактивистский подход можно рассматривать как философию надежды и эмансипации, призывающую к постоянному переосмыслению и трансформации нашего бытия в мире.
От человека к киборгу: этические вопросы энактивистского подхода.
Далее мы рассмотрим собственно этические аспекты, возникающие на фоне развития технологий человеческой киборгизации через призму энактивизма [21]. Здесь мы должны отметить существенное противопоставление традиционному представлению о познании как об обработке информации изолированным мозгом. С точки зрения этики, такой подход основывается на фундаментальной укорененности познающего субъекта в мире и его неразрывной связи с окружающей средой. В условиях человеческого киберулучшения возникает проблема того, как технологические расширения тела могут повлиять на процессы познания и формирование опыта.
Одним из ключевых понятий энактивизма является автопоэзис - способность живых систем к самовоспроизводству и поддержанию собственной организации. Это понятие было предложено чилийскими биологами У. Матураной и Ф. Варелой как характеристика минимальной единицы жизни [22]. С этической точки зрения, концепция автопоэзиса акцентирует внимание на внутренней ценности и автономии живых существ, их способности к самоорганизации и поддержанию собственного существования. Чем больше развиваются киборгианские технологии, тем более актуальной становится проблема того, как технологические вмешательства могут повлиять на автопоэтические процессы организма и не нарушат ли они его фундаментальную автономию.
Энактивистский подход уделяет особое внимание роли телесного опыта и сенсомоторного взаимодействия в формировании познания [23]. Это имеет важные этические следствия, поскольку акцент здесь ставится на значимости воплощенного опыта и практических навыков, а не только абстрактного мышления. Такой взгляд может способствовать более целостному пониманию человеческой природы и ценности различных форм знания. Киборгизация актуализирует проблему того, как технологические улучшение сенсорных и моторных возможностей человека могут изменить его опыт и связи с окружающей средой.
Еще одним важной особенностью энактивизма является представление о познании как о динамическом процессе, возникающем во взаимоотношениях между организмом и средой. С этической точки зрения, это подтверждает реляционную природу познания и моральной субъектности. Нравственные суждения и действия рассматриваются не как результат абстрактных размышлений изолированного разума, а как эмерджентные свойства, возникающие в конкретных ситуациях соприкосновения с внешним миром. Через призму концепта киборга это может означать, что технологически обусловленное усиление когнитивных способностей способно оказать влияние на процессы принятия этических решений и формирования моральных суждений.
В фокусе энактивистского подхода находится значение социального взаимодействия в формировании познания. Здесь также присутствуют значимые этические импликации, поскольку во главу угла ставится фундаментальная взаимозависимость людей и значимость межличностных отношений для развития нравственных способностей. И в этом смысле технологические дополнения коммуникативных возможностей человека могут изменить характер коммуникации с внешним окружением и повлиять на формирование моральных норм и ценностей.
Критики энактивизма указывают на сложность эмпирической проверки некоторых его положений и опасность чрезмерного редукционизма. Сторонники его, в свою очередь, утверждают, что этот подход позволяет преодолеть ограниченность традиционных моделей познания, предлагая более целостный взгляд на симбиоз человека и технологий. Они стремятся найти золотую середину между технофобией и слепым техно-оптимизмом, открывая новые горизонты для понимания нашего места в технологизированном мире. Однако такой путь не лишен терний. Философия киборгизации, рассматриваемая через призму энактивизма, поднимает ряд фундаментальных этических вопросов.
Одним из ключевых вопросов в контексте киборгизации является проблема границ человеческой идентичности и автономии. Наши познание и опыт неразрывно связаны с телесностью, и технологические модификации тела могут существенно повлиять на самость. Существует риск того, что киборгизация приведет к размыванию границ между человеком и машиной, что повлечет за собой серьезные этические последствия. Также большое значение в контексте киборгианских процессов имеет вопрос о справедливости и равенстве. Широкая доступность технологий усиления когнитивных и физических способностей может углубить существующее неравенство или создать новые формы дискриминации. Обеспечение равного доступа к технологиям улучшения человека и предотвращение появления «кибер-элит» становится важной общественной задачей.
Энактивистский подход также заставляет задуматься о влиянии киборгизации на такую категорию, как экология. Наше познание и опыт формируются во взаимодействии с окружающей средой. Технологические модификации человеческих возможностей могут существенно изменить наше отношение к окружающему миру и другим живым существам. Существует риск, что эти изменения приведут к еще большему отчуждению человека от естественной среды. Киборгизация способна трансформировать наше восприятие природы и наше место в ней. И здесь становится крайне важным для человека сохранить связь с естественным миром даже при расширении технологических возможностей.
Особое внимание следует уделить проблеме сохранения человеческого достоинства и ценности «несовершенства». Энактивизм признает важность телесного опыта и уязвимости как неотъемлемых аспектов человеческого существования. Возникает опасение, что стремление к технологическому совершенствованию может привести к обесцениванию этих важных характеристик человеческого опыта, связанных с преодолением ограничений и уязвимостью. Энактивистская перспектива предлагает нам новую оптику для рассмотрения сущности познания и нравственности, подчеркивая их тесную связь с телесным опытом, социальными контактами и отношениями с окружающей средой. Это открывает новые возможности для размышлений о киборгизации с точки зрения этики и способна внести вклад в обеспечение более целостного понимания того, как происходит взаимодействие человека и технологий.
Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на более детальное изучение этических импликаций энактивизма в контексте слияния человека и машины. Особого внимания заслуживают вопросы того, как влияет киборгизация на содержание таких понятий, как моральная ответственность, общественные и культурные ценности, а также на роль эмоций в нравственных суждениях. Кроме того, важной задачей является разработка практических приложений энактивистского подхода в сфере этического регулирования технологий улучшения человека и развития нравственных способностей в условиях все более тесной интеграции человека и машины.
Таким образом, энактивистское осмысление этических аспектов киборгизации формирует плодотворную основу для осмысления сложных вызовов, связанных с киборгианским улучшением человека. В результате мы получаем возможность рассматривать эти вопросы таким образом, чтобы стремиться к целостному пониманию человеческого опыта, избегая как технофобии, так и некритического техно-оптимизма. Данный подход может способствовать формированию более взвешенной и этически обоснованной стратегии развития технологий киборгизации.
Энактивизм как философское направление: утопический и научный подходы.
К настоящему времени энактивизм эволюционировал в масштабный философский проект. И далее мы рассмотрим две траектории развития энактивизма - утопическую и научную, и проанализируем их возможности для создания альтернативной онтологии [24].
Напомним, что ключевые идеи энактивизма включают в себя изучение опыта от первого лица, понимание познания как сенсомоторной координации, акцент на воплощенности познания и интеграцию феноменологических и прагматистских традиций. Энактивизм предлагает по-своему альтернативный взгляд на то, как организмы формируют свою когнитивную область и «энактивно» создают мир своего опыта.
Однако по мере развития энактивистского движения возникает необходимость критической рефлексии целей, методов и достижений этого подхода. В этой связи ниже мы рассмотрим энактивизм через призму двух различных, но взаимосвязанных подходов - утопического и научного.
Утопический энактивизм фокусируется на построении целостной философской системы, интегрирующей различные научные дисциплины и философские подходы в единую онтологию [25].
Данное направление нацелено на формирование альтернативного «энактивистского мировоззрения», противостоящего механистическим и вычислительным моделям. Утопический проект включает в себя концептуальный анализ, междисциплинарный синтез и теоретическое распространением базовых принципов энактивизма на новые области - от биологии до социальных структур.
Научный энактивизм, напротив, ориентирован на конкретные эмпирические исследования и практическое применение отдельных энактивистских идей в когнитивной науке и психологии [26]. Этот подход более прагматичен и эклектичен, он не стремится к полному принятию всей энактивистской философии, а использует отдельные продуктивные концепции для решения конкретных научных задач.
Разграничение утопического и научного энактивизма позволяет прояснить различные цели и методы работы в рамках этого подхода. Утопический проект важен для развития целостного философского видения, но он рискует превратиться в самодостаточное теоретизирование, оторванное от эмпирической науки. Научный энактивизм обеспечивает связь с практикой, но может утратить революционный потенциал изначальных энактивистских идей. Важно отметить, что утопический и научный подходы в энактивизме не являются взаимоисключающими, а скорее взаимодополняющими. Утопическое видение обеспечивает долгосрочные цели и философскую глубину, в то время как научный подход предоставляет эмпирическую основу и практическую применимость. Достижение баланса между этими подходами является ключевым для полноценного развития энактивизма как философского подхода, способного адекватно осмыслить сложные процессы соприкосновения человека и технологий в контексте киборгизации.
Мы полагаем, что продуктивное развитие энактивизма требует поиска баланса между этими подходами. Необходимо сохранять амбициозность философского проекта, при этом ориентируясь на конкретные научные проблемы и возможности практического применения. Важно избегать как беспочвенных теоретических спекуляций, так и некритичного использования отдельных энактивистских концепций без понимания их философских оснований.
Как мы показали ранее, энактивистский фокус позволяет осмыслить связь человека и технологий в контексте происходящих изменений в общественной жизни, предлагая более целостное понимание этих процессов с учетом телесного опыта, социальных контактов и экологических связей. Энактивизм подразумевает активную роль организма в формировании своего опыта и когнитивной реальности. Это позволяет рассматривать киборгизацию не просто как «дополнение» человеческого тела технологическими устройствами, а как процесс коэволюции биологического и технологического, ведущий к возникновению качественно новых форм воплощенного познания и опыта.
Такой подход также позволяет по-новому взглянуть на проблему «расширенного сознания» через призму фигуры киборга. Если познание неразрывно связано с телесным опытом и сенсомоторными схемами, то интеграция технологических устройств в тело человека может вести к фундаментальным изменениям в структуре сознания и восприятия реальности. Это открывает как новые возможности для развития человеческого потенциала, так и потенциальные риски утраты аутентичного человеческого опыта.
Важной составляющей энактивистского осмысления киборгизации является также акцент на социальном измерении этого процесса. Технологическое усиление и расширение человеческих возможностей неизбежно трансформирует социальное взаимодействие и структуры. Энактивизм уделяет особое внимание тому, что индивидуальный опыт всегда формируется в контексте межличностых отношений. Соответственно, этические последствия киборгизации должны рассматриваться не только на индивидуальном, но и на социальном уровне.
Основные проблемы, стоящие перед энактивизмом на современном этапе, включают:
- Преодоление тенденции к замыканию в собственном дискурсе и «борьбе с ветряными мельницами» устаревших когнитивистских подходов. Необходимо учитывать и обеспечить понимание современного состояния когнитивной науки.
- Развитие продуктивного диалога с другими направлениями, в том числе с традиционно маргинализированными подходами, поскольку существует потенциал успешно интегрировать их идеи и создавать ценные коллаборации.
- Необходимость формулировки краткой и убедительной презентации ценности энактивистского подхода для конкретных научных задач.
- Поиск баланса между теоретической полнотой и эмпирической применимостью, между революционными амбициями и инкрементальным научным прогрессом.
- Развитие междисциплинарного сотрудничества, требующего от философов глубокого понимания методологии и проблематики конкретных научных областей.
- В контексте философии киборгизации - разработка концептуального аппарата для описания новых форм воплощенного опыта, возникающих на стыке биологического и технологического.
- Исследование этических импликаций энактивистского подхода к киборгизации, в частности, вопросов сохранения человеческой автономии и аутентичности в условиях технологического прогресса.
- Анализ социальных последствий киборгизации с позиций энактивистского понимания межличностного взаимодействия и социального конструирования реальности.
Мы полагаем, что будущее энактивизма связано не столько с утверждением его как целостной альтернативной парадигмы, сколько с продуктивным сопряжением энактивистских идей с различными подходами в когнитивной науке, биологии, психологии и других областях. Энактивизм способен существенно обогатить многогранное и целостное понимание познания и сознания, особенно в свете технологически обусловленных изменений человеческой природы.
В области философии киборгизации энактивистский взгляд может способствовать преодолению дуалистических представлений о связи человека и технологий, акцентируя внимание на их глубокой интеграции и коэволюции, через призму осмысления таких феноменов, как расширенное сознание, технологически опосредованное восприятие, гибридные формы телесности.
Одновременно энактивизм может предложить новый взгляд на этические проблемы киборгизации, выходящий за рамки традиционных дихотомий «естественное/искусственное» или «человеческое/нечеловеческое». Вместо этого фокус смещается на вопросы, как различные формы киберулучшений влияют на способность человека к автономному действию, формированию аутентичного опыта и участию в межличностных отношениях.
Чтобы энактивизм мог развиваться как полноценное философское направление, необходимо постоянно подвергать его критическому осмыслению и обсуждать в широком научном сообществе. Баланс между утопическим и научным подходами, между теоретической полнотой и эмпирической применимостью может сделать энактивизм важным ресурсом для развития более холистического и этически ответственного подхода к отношениям между человеком и технологиями в контексте современных процессов киборгизации и изменения человеческой природы под влиянием технологического прогресса.
Заключение.
Как мы показали, энактивистская концепция трансформирует понимание познавательной деятельности, указывая на их неразрывную связь с телесными практиками и общественными связями [4]. Этот подход позволяет преодолеть ограничения традиционных натуралистических концепций сознания, предлагая альтернативную онтологию, основанную на идее взаимного конституирования субъекта и объекта.
Синтез энактивизма и принципа свободной энергии позволяет рассматривать когнитивные процессы в эпоху слияния человека и машины в контексте проблемы морального суждения, и по-новому взглянуть на этические вызовы, связанные с технологическим усилением человеческих возможностей. Подход к формированию сознания и идеологическому угнетению с позиций энактивизма предлагает более точное понимание динамики отношений между индивидом, обществом и технологиями. Анализ этических вызовов технологического расширения человека в рамках этой парадигмы способствует формированию более целостного и этически ответственного подхода к развитию технологий улучшения человека.
Энактивизм обладает значительным потенциалом для развития в качестве нового философского подхода, способного интегрировать достижения различных научных дисциплин и философских традиций. Проведенное исследование подтверждает гипотезу о возможности применения энактивистского подхода для формирования новой философии в контексте технологической трансформации человека. Однако реализация этого потенциала требует дальнейшей разработки и эмпирической проверки энактивистских концепций.
Дальнейшие исследования могут быть направлены на создание более детальных моделей взаимодействия биологических и технологических систем, эмпирическое исследование трансформаций в структуре опыта при различных формах технологического усиления человеческих способностей, разработку энактивистской этики киборгизации и объединение энактивистских концепций с другими подходами в когнитивной науке и философии техники [27] [28]. Это позволит создать более объемную картину трансформации человеческой природы, и этических последствий, обусловленных происходящими изменениями.
Список литературы:
- Степин В.С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы философии. – 2006. – № 2. – С. 16-26.
- Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. – М.: Университетская книга, 2014. – 352 с.
- Clark A. Natural-born cyborgs: Minds, technologies, and the future of human intelligence. – Oxford University Press, 2004. – 229 p.
- Varela, Francisco J. ; Thompson, Evan & Rosch, Eleanor (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press.
- Noë A. Action in perception. – MIT press, 2004. – 277 p.
- O'Regan J.K., Noë A. A sensorimotor account of vision and visual consciousness // Behavioral and brain sciences. – 2001. – Vol. 24. – №. 5. – P. 939-973.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая / Пер. с нем. А.В. Михайлова. – М.: Академический проект, 2009. – 489 с.
- Sellars, Wilfrid S. (1963). Philosophy and the scientific image of man. In Robert Colodny (ed.), Science, Perception, and Reality. Humanities Press/Ridgeview. pp. 35-78.
- Varela F.J. Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem // Journal of consciousness studies. – 1996. – Vol. 3. – №. 4. – P. 330-349.
- Thompson, Evan (2007). Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory? // Nature reviews neuroscience. – 2010. – Vol. 11. – №. 2. – P. 127-138.
- Kirchhoff M.D., Froese T. Where there is life there is mind: In support of a strong life-mind continuity thesis // Entropy. – 2017. – Vol. 19. – №. 4. – P. 169.
- Allen M., Friston K.J. From cognitivism to autopoiesis: towards a computational framework for the embodied mind // Synthese. – 2018. – Vol. 195. – №. 6. – P. 2459-2482.
- Юм Д. Трактат о человеческой природе / Пер. с англ. С.И. Церетели. – Минск: Попурри, 1998. – 720 с.
- Мердок, И. Суверенность блага // Логос. - 2008. - № 1. - С. 117-137.
- Fricker M. Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. – Oxford University Press, 2009. – 188 p.
- Medina J. The epistemology of resistance: Gender and racial oppression, epistemic injustice, and the social imagination. – Oxford University Press, 2013. – 337 p.
- Zawidzki T. Mindshaping: A new framework for understanding human social cognition. – MIT Press, 2013. – 328 p.
- Бергсон А. Творческая эволюция / Пер. с фр. В.А. Флеровой. – М.: Кучково поле, 1998. – 384 с.
- Dewey J. Human nature and conduct: An introduction to social psychology. – Courier Corporation, 2002. – 336 p.
- Gallagher S. Enactivist interventions: Rethinking the mind. – Oxford University Press, 2017. – 249 p.
- Maturana H.R., Varela F.J. Autopoiesis and cognition: The realization of the living. – Springer Science & Business Media, 1991. – Vol. 42. – 143 p..
- Di Paolo E., Thompson E. The enactive approach // The Routledge handbook of embodied cognition. – Routledge, 2014. – P. 86-96. //Di Paolo, E., & Thompson, E. (2017, November 6). The Enactive Approach. https://doi.org/10.31231/osf.io/3vraf //Di Paolo, Ezequiel, and Evan Thompson. “The Enactive Approach.” MindRxiv, 6 Nov. 2017. Web. // Di Paolo, Ezequiel, and Evan Thompson. 2017. “The Enactive Approach.” MindRxiv. November 6. doi:10.31231/osf.io/3vraf.
- Meyer, Russell & Brancazio, Nick (2023). Enactivism: Utopian & Scientific. Constructivist Foundations 19 (1):1-11. //Meyer R. & Brancazio N. (2023) Enactivism: Utopian & scientific. Constructivist Foundations 19(1): 1–11. https://constructivist.info/19/1/001 // Meyer R. & Brancazio N. (2023) Enactivism: Utopian & Scientific. Constructivist Foundations 19(1): 1–11. Available at https://constructivist.info/19/1/001.meyer
- Bannon B.E. Flesh and nature: Understanding Merleau-Ponty's relational ontology // Research in phenomenology. – 2011. – Vol. 41. – №. 3. – P. 327-357.
- Meyer, Russell & Brancazio, Nick (2023). Enactivism: Utopian & Scientific. Constructivist Foundations 19 (1):1-11.
- Stewart J., Gapenne O., Di Paolo E.A. Enaction: Toward a new paradigm for cognitive science. – MIT Press, 2010. – 449 p.
- Rupert, Rob. (2009). Cognitive Systems and the Extended Mind. Cognitive Systems and the Extended Mind. 10.1093/acprof:oso/9780195379457.001.0001. //Rupert, Robert D., Cognitive Systems and the Extended Mind, Philosophy of the Mind (New York, 2009; online edn, Oxford Academic, 1 Sept. 2009), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195379457.001.0001, accessed 5 Dec. 2024.


